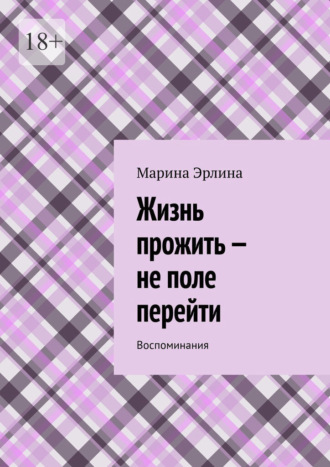
Жизнь прожить – не поле перейти. Воспоминания
К осени мы все вернулись в Раменское. Отец искал работу в Москве и ему предложили поехать добровольцем во Львов по программе «Восстановление разрушенных районов». Львов недавно освободили, война уже перешла на территории западных стран. Я помню, как родители долго обсуждали этот вариант. В нашей комнатке помещалась только одна кровать, на ней спали родители с грудным ребенком, а мы с братом по-прежнему спали на холодном полу. Никаких шансов улучшить жилищные условия в ближайшей перспективе не было. И они решились на переезд, так как там обещали дать хорошее жилье.
В начале января сорок пятого года отец поехал туда один, а в феврале вернулся за нами. Из имущества нам ничего перевозить не пришлось, одежды было немного, а свое сокровище – библиотеку отец с болью в сердце продал.
Квартиру нам дали действительно хорошую. Три большие комнаты и кухня, ванная комната и отдельно туалет, газовое отопление. В кухне был стол со стульями, а комнаты пустые. Все сначала спали на полу, но потом очень быстро приобрели хорошую мебель, которую дешево продавали поляки, не желающие оставаться на советской территории, и массово уезжающие в Польшу.
Сначала было голодно, но потом нас троих приняли в детский сад, в разные группы. Водить нас в сад было некому, родители с утра до вечера работали, поэтому за младших детей отвечала я. Ходили туда пешком, потихоньку, потому что сестренке было только полтора года. В садике нас прилично кормили, даже давали рыбий жир. Старшим детям разрешали не спать после обеда, и мы помогали воспитателям. Садик располагался в большом особняке, окруженном фруктовым садом, поэтому нас часто просили собрать ягоды или яблоки, из которых нам на полдник варили компот. В садике нам очень нравилось, и мы не подозревали, что живем в опасной обстановке.
Однажды, возвращаясь из детсада, мы были остановлены компанией подростков, которые окликнули нас с противоположной стороны улицы: «Стой! Отвечайте, кто вы, поляки, хохлы или русские?» Я взяла сестренку на руки, а брату говорю: «Бежим скорее отсюда». И, не оглядываясь, побежала за угол дома. А брат растерялся, и его забросали камнями: «Молчат, значит русские. Бей их!» Я стояла за углом и переживала за брата. Оставить сестру я не могла и выйти с ней к этим бандитам было опасно. Когда все затихло, я заглянула за угол – брат сидел на корточках у стеры и плакал, а по щеке у него текла кровь. Позже мы обнаружили у него синяки по всему телу.
Война только что закончилась, но отголоски ее мы видели постоянно. По ночам слышались перестрелки, а утром мы не были уверены, что поздороваемся со своими соседями. Из подъездов выносили трупы, иногда целыми семьями. Кто убивал, мы не знали – и наши зачищали территорию, и бандеровцы мстили нашим, и разные банды типа «черной окошки». Родители строго наказывали дверь никому не открывать, что бы нам не говорили. И все-таки меня однажды обманули. Днем, когда родители были на работе, позвонила женщина, и сказала, что она должна нашей маме деньги. Я открыла дверь на цепочку и сказала: «Давайте». Но она ответила: «Нет, детям деньги в руки давать нельзя. Ты пусти меня, я положу их на полочку повыше, чтоб вы не достали, а вы маме скажете, где они лежат». Я, как загипнотизированная открыла цепочку и пустила ее в квартиру. А она в кухню, где были полочки, даже не зашла, а стала ходить по всей квартире, заглядывать в шкафы, приговаривая «куда бы их лучше спрятать». Я, конечно, поняла, кого я впустила, но что может сделать восьмилетний ребенок против взрослого? Я просто ходила за ней и следила, что она делает. А она стала развертывать сложенную мамину шубу на дне шкафа. Тут уж я не стерпела: «Не трогайте!», и нагнулась, чтоб не дать ей вытащить шубу. Видимо, воспользовавшись тем, что я смотрю вниз, она сдернула с вешалки над моей головой папин выходной пиджак с орденом, которым его недавно наградили за работу в тылу, и поспешила к выходу. «Ладно, я зайду, когда мама вернется». Младшие тоже все поняли, от страха спрятались под кухонный стол и сидели тихо. Вскоре пришла мама и сразу заметила белую полосу у меня на лбу, видимо, гостья меня чем-то помазала, чтобы усыпить мое сознание. Мама не ругала меня, она была рада, что дети целы. Детей тогда тоже воровали. А папа очень жалел и пиджак, и орден.
Приходили и под видом нищих. Одна так плакала, что ей нечем детей накормить, я дала ей через цепочку большой ломоть хлеба. А потом мы нашли этот хлеб в пожарном ящике с песком. Ей было нужно не это.
В сентябре 45-го я пошла в школу. Мне было уже 8 лет. Читать я научилась год назад, когда мы жили на Саньковском болоте. Выходные у рабочих были не часто, но игода они приезжали и собирались на веранде клуба, где были наши комнаты, вслух читали газету, обсуждали события в стране и на фронте. Мне казалось каким-то волшебством, что глядя на бумагу, человек видит там слова. Мне очень хотелось научиться этому. Однажды мне достался кусок газеты, и я стала расспрашивать папу, как люди угадывают в ней слова. Папа рассказал мне про буквы, слоги из которых складываются слова. И я решила сама научиться этому. Я носила в кармане этот кусок газеты и при каждом удобном случае спрашивала взрослых как называется незнакомая мне буква. Потом я твердила эту букву, находила ее на этом клочке газеты и повторяла ее название. Потом складывала из знакомых букв слоги, и слова, находила их в газете. И к концу лета я уже читала этот обрывок газеты. Книг у нас не было. Когда вернулись в Раменское, мне подарили Букварь, с которым я не расставалась. А во Львове недалеко от нашего дома была детская библиотека, куда мама меня записала раньше, чем в школу, и за лето я прочитала уже много детских книг. Поэтому в первом классе мне было легко, я очень старательно училась красиво писать.
Школа была далеко от дома, минут 30—40 пешком. Никто меня туда не провожал. Мама должна была теперь сама отводить младших в детский сад, и ей было не до меня. А у меня было много времени по пути размышлять о жизни и сочинять стихи. И первый класс, и все последующие я закончила на отлично, хотя родители никогда не интересовались моей учебой.
Когда мне было лет десять, случился несчастный случай с семьей главного инженера завода, где работал мой отец, но последствия этого для нашей семьи были гораздо тяжелее, чем для них.
У главного инженера была жена и дочь дошкольного возраста. Однажды утором, когда он ушел на работу, а жена с дочерью были в ванной, произошел взрыв газа. Дом разрушился. Но их просто завалило в ванной комнате. Они были целы, но, конечно, пережили страх и потеряли все имущество. Моего отца вызвал директор. Он попросил временно уступить им одну комнату в нашей трехкомнатной квартире и помочь семье оправиться от случившегося. А им от завода выделили помощь – какое-то количество продукции завода (мыла). Мыло в эти годы было большим дефицитом. Жена инженера была избалованной дамой и торговать на рынке считала для себя унизительным, поэтому лежала в постели и притворялась очень больной. Моя сердобольная мама вызвалась ей помочь и понесла на рынок это мыло. Не помню, удалось ли ей что-то продать, но ее быстро арестовали, обвинив в спекуляции. Мы остались одни. Мне пришлось, пропуская уроки в школе, отводить сестренку в детсад. Брат уже ходил в первый класс, но его школа была рядом, и он бегал туда один. Отца вызвали в НКВД и сказали: «Мы можем облегчить Вашу участь и отпустим Вашу жену, если Вы согласитесь работать нашим осведомителем». Что ему было делать? Трое малых детей без присмотра. Конечно, он согласился. Но с его характером ему это было невероятно трудно
Он болезненно ненавидел лгунов, доносчиков и предателей. Он строго относился к нам, детям, но бил только за одну провинность – ложь. Мы знали, что провинность простят, если честно признаешься. А в этом случае жизнь заставила его принять роль доносчика. Его регулярно вызывали и спрашивали о сотрудниках, кто что говорит, кто что думает. Отец все время отказывался отвечать, оправдываясь тем, что как экономист мало общается с сотрудниками. Ему советовали общаться и через какое-то время снова вызывали. Тогда он увольнялся и менял работу. И песня начиналась сначала. Так длилось несколько лет. Наконец, его вызвали к высшему руководству. Он понимал, что его могут посадить за саботаж, и на прием взял меня с собой. Управление находилось в красивом особняке на красивой улице с сквером посередине и лавочками для отдыха. Он усадил меня на лавочке и сказал: «Если я оттуда не выйду, возвращайся домой и расскажи маме». Я сидела долго и переживала за него. А когда стало темнеть, я поняла, что он не выйдет и мне надо возвращаться домой, я осознала, что не знаю, в какой стороне мой дом, я не запомнила дорогу, по которой мы сюда пришли. Мне стало совсем страшно. Но вскоре отец вышел, расстроенный и молчаливый. Потом в очередной раз уволился и стал искать обмен квартиры на другой город.
Зарплату он получал все меньше, жить стало труднее и нашу трехкомнатную квартиру в центре мы поменяли на двухэтажный особняк на окраине с хорошим садом и большим огородом. Стали выращивать овощи и картошку.
Осенью, когда огород убрали, купили корову, и эту корову меня заставляли пасти на огороде. На корове был ошейник, и я ходила за ней, намотав на руку веревку, чтоб она не убежала. Огород от улицы отделяла низенькая изгородь. Дойдя до изгороди, корова перемахнула через нее и, потянув меня за собой, пустилась вдоль улицы к старому хозяину. Перед рынком, то ли я споткнулась, то ли она прибавила скорость, я упала, и она поволокла меня на привязанной к моей руке веревке. Возле рынка эту картину увидел мужчина, подбежал и, поймав веревку, остановил корову, отвязал меня и проводил до дома. Я потом неделю не ходила в школу, залечивая ссадины на теле. Деньги за корову потом отдали, и родители на них купили пару поросят. Мы, дети ухаживали за ними, купали, кормили. А пищи им требовалось все больше и больше, и меня посылали рвать крапиву вдоль железной дороги, ходить на центральный рынок собирать там капустные листья. Рынок был далеко, и я долго тащила мешок с листьями, мечтая о том, чтоб проходя мимо школы не встретить одноклассников.
Однажды на этом пути я чудом избежала беды. Впереди меня с рынка той же дорогой шли две женщины и несли очень красивый комнатный цветок в горшке. Я какое-то время не перегоняла их и любовалась этим цветком. Потом, перейдя улицу на перекрестке, я решила обогнать их и пойти побыстрее, потому что дома ждали другие дела и уроки. Обогнав их, я оказалась за фонарным столбом, а они, отстав от меня буквально на шаг, перед ним. И в этот момент я услыхала позади себя сильный грохот и крики, и инстинктивно бросилась бежать. Только пробежав целый квартал, я опомнилась, не понимая, однако, что произошло, и решила вернуться. Оказывается, грузовая машина въехала на тротуар и врезалась в тот фонарный столб, который я только что на шаг обошла. Сбитые женщины лежали на тротуаре, цветок, которым я любовалась, лежал на земле, горшок был разбит. Из аптеки рядом вышли люди и пытались помочь женщинам. «Да, – подумала я, – мне сильно повезло».
Зимой одного поросенка продали, а второго отец зарезал. Придя из школы и узнав об этом, я так расстроилась, что несколько дней плакала, как будто потеряла своего ребенка. Мясо этого поросенка я есть отказалась.
Мой отец был большим поклонником искусства и литературы. Он собрал большую коллекцию уникальных старых изданий творчества известных писателей и тома энциклопедии. Нам, детям, не разрешалось самостоятельно брать книги отца, но иногда под присмотром взрослых давали их посмотреть, и я помню эти большие тяжелые тома, в которых иллюстрации были переложены тонкой прозрачной бумагой. Но отец вынужден был продать это свое богатство, чтобы выручить деньги на переезд. Я видела, как тяжело ему это было. Поэтому, когда он видел в своих детях тягу к искусству, он старался поддержать это. А я в детстве очень любила музыку, слушала радиопередачи и мечтала сама научиться играть. Я распевала песни, и барабанила по столу, как будто я аккомпанирую себе. Отец нарисовал на картонке клавиши фортепиано и написал название нот, и я изображала, что играю по этим нотам. Но, когда появилась возможность, он купил настоящий большой рояль и записал меня в музыкальную школу. В этой школе преподавали только фортепиано, учительница была местной националисткой и меня, русскую, ненавидела. Несмотря на то, что я очень старалась, она ставила мне одни тройки и обзывала бездарной тупицей. К следующему учебному году отец купил еще и баян, чтобы приобщить к музыке сына. Его записали в другую музыкальную школу ближе к дому, где работали русские преподаватели и родителям было удобнее водить нас вместе с братом. На фортепиано меня не приняли, не было мест, а на баян к тому же учителю, у которого учился брат, меня взяли. В этой школе была полная программа музыкального образования. Мы изучали сольфеджио, пение, свой инструмент и обязательно основной инструмент – фортепиано. Мне нравилось все. На сольфеджио нам часто давали диктанты. Преподаватель проигрывал мелодию, а мы на слух должны были ее записать нотами. Я делала это быстро, с первого прослушивания, для других она проигрывала это несколько раз. На пении тоже меня выделяли. Особо хорошим голосом я не обладала, но пела правильно. И, когда у других не получалось, меня преподаватель просил пропеть этот кусок для них. По баяну я быстро догнала и обогнала брата. И, когда и в школе, и дома стали меня ставить в пример брату, он вовсе отказался учиться музыке, а родителям носить баян только ради меня тоже показалось нерациональным. К этому времени мне уже было лет 12, и я стала его носить сама. Но, когда я перешла в 7 класс, мы переехали из квартиры в особняк на окраине города. Музыкальная школа оказалась очень далеко, и меня оттуда забрали, тем более, что и рояль, и баян, и часть мебели продали, чтоб собрать деньги на переезд. Я очень тосковала по своему любимому занятию, но забот прибавилось, к тому же надо было привыкать к другой школе, водить туда сестренку, которая пошла в первый класс, и помогать родителям по хозяйству.
Шел 1952 год. Я закончила 7 класс с отличием и мечтала учиться дальше, чтобы поступить в университет на физмат. Но отец сказал: «Женщине учиться незачем, все равно будет с пеленками возиться». Он сам пошел в школу и, забрав мои документы, отнес их в швейный техникум. «Пусть хоть полезному делу научится, в семье пригодится». Я сильно обиделась, ушла в себя и перестала общаться с родителями, считая, что меня лишили будущего. Обстановка в семье из-за финансовых проблем ухудшилась, родители часто ссорились, у мамы после этого случались сердечные приступы. И мне казалось, что жить теперь незачем. Рядом железная дорога, в 11 часов вечера мимо проходит поезд Москва-Чоп, уже темно, никто не увидит, выйду за ворота и лягу на рельсы. И однажды, во время их ссоры, когда мама рыдала, а отец кричал на нее, я не выдержала и плеснула ему в лицо воду, которую налила для мамы.
«Ты сделал жизнь семьи невыносимой, я не хочу больше жить, сегодня вечером Москва – Чоп избавит меня от такой жизни. Остальные уйдут за мной, если ты не прекратишь их тиранить». Отец понял, что я говорю всерьез и испугался. Он молча взял меня за руку, увел в другую комнату и стал со мной разговаривать как со взрослым человеком. Он говорил, что Жизнь – это великий дар, ее надо ценить, какой бы стороной она к тебе не повернулась. «Времена меняются, скоро ты начнешь самостоятельную жизнь и будешь ее планировать по-своему». Почему-то мне самой это в голову не приходило, казалось, что то, что происходит сейчас, теперь навсегда.
Как-то в городе я встретилась со своей бывшей классной руководительницей и рассказала ей о своей беде. Но она мне сказала: «Рита, ты хорошо подготовлена, техникум тоже дает среднее образование, и ты поступишь в институт после него. Я в тебя верю». И ее слова дали мне надежду, я стала так же отлично учиться в техникуме и закончила его с отличием, получив право поступить в ВУЗ без положенной отработки.
Когда я закончила второй курс, родители нашли обмен квартиры во Львове на Орджоникидзе. Они решили, что на юге прожить дешевле, и уехали, оставив меня одну заканчивать техникум. Отец избавился от претензий НКВД, но столкнулся там с новыми проблемами. Квартира, описанная как особняк, оказалась бывшим сараем, где содержались животные, переделанным в однокомнатный флигель. Даже пол там настелили, не сняв слой земли, пропитанный навозом. Отцу пришлось делать большой ремонт. Во-вторых, он, опытный экономист, не мог найти работу. Ему отвечали: «Извините, нам нужны национальные кадры». Тогда он обратился ЦК Компартии Осетии, обещая покончить с собой и прося позаботиться о его детях. Только после этого ему дали направление в колхоз за 30 км от города, а семья долго жила на одну мамину зарплату швеи-мотористки на швейной фабрике.
В техникуме мне дали место в общежитии. Студенты жили очень тесно – по 4—6 человек в комнате. Одни койки, как в больнице, даже стол не в каждой комнате. Одна кухня на первом этаже, там же прачечная. Все мы были бедными и одного чемодана под койкой хватало для всего имущества. В моей группе большинство составляли девочки из окрестных деревень, несколько человек были из Донбасса, и только я одна местная русского происхождения. Большинство жили на стипендию, правда, деревенским изредка присылали сало. Мне не присылали ничего. Стипендия была 150 рублей в месяц. Этих денег хватало ровно на буханку хлеба в день. И я съедала за день эту буханку. Из этой стипендии вычитали за учебу, поэтому в сентябре и в январе мы получали по 75 рублей. Сентябрь можно было выжить, потому что все приезжали из дома с какими-то продуктами. А в январе было труднее, потому что шли экзамены, а голод мешал думать. И вот на последнем курсе я решила во время экзаменов есть досыта, а на каникулы оставить одну буханку хлеба, разделив ее на количество дней каникул, и есть, как в войну, по кусочку в день. На каникулы все студены разъезжались по домам. В общежитии остались только мы трое – я и две сестры из Макеевки, потому что денег на дорогу не было. Мне не пришло в голову разрезать мою последнюю буханку на сухарики, и она через несколько дней стала каменной, ни отрезать, ни отломить стало невозможно. Мы пили воду и лежали в койках, чтоб не терять силы.
Нас спасла их мама, которая приехала из Макеевки со своей младшей дочерью проведать старших, и привезла нам сухари и супы в пакетиках. На этом мы и дожили до очередной стипендии.
На преддипломную практику в 1956 году одну группу направили в Харьков на крупную швейную фабрику. Меня назначили старостой этой группы и сказали, что я отвечаю за всех. Неприятность нас ждала в первый же день приезда. Не смотря на договоренность руководителей, нас не приняли в общежитие, куда мы приехали. Но комендант посоветовала, пока проясняется этот вопрос, оставить вещи у нее и всем сходить в баню, чтобы получить справки о санобработке. Пошли все, кроме меня, потому что решать вопрос с нашим поселением было больше некому. И мне пришлось походить по кабинетам городского начальства. Наконец, вопрос решили и дали мне новое направление. Когда я вернулась, все уже были со справками, кроме меня. Я проводила их по новому адресу, предъявила документы, посмотрела выделенную комнату, оставила свои вещи и ушла на санобработку. А когда вернулась, чуть не заплакала. Девушки распределили кровати, а мне оставили койку, которая вплотную прилегала к раковине. Как бы человек аккуратно не умывался, брызги все равно летели на кровать. И это в благодарность за мою заботу о них. Я сильно обиделась и тут же пошла к коменданту общежития с просьбой найти для меня более комфортное место. И меня поселили в маленькую четырехместную комнату вместе с выпускниками этого техникума. Я подружилась с одной из них и была очень рада тому, что этот случай нас познакомил. Мы с ней всюду ходили вместе, она познакомила меня со своими друзьями харьковчанами.
Шел 1956-й год. Телевизоры только что появились и редко кто обладал такой новинкой, но каждый владелец считал своим долгом дать возможность всем соседям и знакомым с этим чудом познакомиться. И моя новая подруга однажды привела меня на такой коллективный просмотр к своим знакомым. В комнате собралось человек 15, соседи приходили со своими стульями. Но для нас нашлось место. После просмотра, конечно, было обсуждение. Мы были как большой слаженный коллектив, хотя многие только что познакомились. Вот таким дружелюбным было в то время советское общество.
С Харьковом у меня связан еще один интересный и загадочный случай. Я делала там пересадку, когда ездила из Львова к родителям в Орджоникидзе. Остановка московского поезда в Харькове была на час раньше, чем прибывал туда львовский поезд. И мне приходилось сутки ждать в Харькове. Выйдя из поезда, я решила пройтись по улице, а потом уже искать место на ночь в зале ожидания. Летом в 10 часов вечера было еще светло, и я с удовольствием прогулялась. Но, когда я вернулась к вокзалу, уже стемнело. В то время напротив здания вокзала стояло большое административное здание, которое разделяло привокзальную площадь на 2 части. Та часть, которая была между этими зданиями была заполнена машинами и людьми круглосуточно, а та часть, которая была за административным зданием пустовала. Она с трех сторон была огорожена, а со стороны улицы в ограждении по углам были два входа. Я в темноте не заметила первый вход, и вошла во второй, поэтому мне пришлось идти по диагонали, чтобы обогнуть административное здание и пройти в вокзал. Площадь слабо освещалась уличными фонарями и на ней не было ни души. Но, когда я прошла примерно четверть своего пути, из-за угла здания вышла компания лысых призывников, которые, видимо, тоже решили прогуляться, пока стоит их поезд. Они весело общались и гоготали, направляясь к первому выходу на улицу, но, заметив меня, развернулись и пошли мне навстречу, продолжая веселиться. Я поняла, что меня ждет. Назад бежать бесполезно, там пустая улица, жилых домов напротив вокзала тогда не было. Здесь никто не услышит, сколько бы я не кричала, в административном здании работу закончили, света в окнах не было. Но, вместо страха я почувствовала сильный протест. Я спокойно шла навстречу компании, а когда до них оставалась пара шагов, я молча про себя, вкладывая всю свою духовную силу, скомандовала: «ЗАМРИ!!!» И в тот же миг все до одного остановились в тех позах, в каких их застала команда. А я спокойно продолжила свой путь между ними, никуда не сворачивая. Я знала, что оглядываться или ускоряться нельзя, и только прислушивалась, что происходит позади меня. Все было тихо, но, когда до угла здания оставалось несколько шагов, я услыхала, что они очнулись и спрашивали друг друга: «Ты че стоишь?» «А ты че?» «А что вообще произошло?» Я выпала из их памяти. Они еще могли меня видеть, но не видели. А через пару шагов я завернула за угол и спокойно дошла до вокзала. И я поняла, что у меня есть духовная сила и я могу себя защитить. Еще один раз в жизни я воспользовалась этой силой в подобном случае в Америке, и это тоже сработало.
К маю мы вернулись во Львов на защиту дипломов. Для меня это было легким делом, и я защитила его на отлично одной из первых. В это же время я списалась с Московским институтом легкой промышленности, мне подтвердили, что отличников из техникума примут без экзаменов. Поэтому, получив диплом, я собрала вещи и поехала в Москву, надеясь быстро сдать документы и поехать к родителям. Но, когда я приехала в институт, мне отказали, объяснив это тем, что в этом году иногородних не принимают, потому что по новым нормам Моссовета, студенческое общежитие перенаселено. «Вы можете поступить на заочное отделение, или езжайте к себе на Украину и поступайте в Киевский институт». Но на путешествие в Киев у меня денег не было, их оставалось ровно на билет от Москвы до Орджоникидзе.
День был дождливый, я ходила по Москве и плакала, радуясь, что прохожие не видят моих слез. По сути, выбора у меня не было. Я вернулась в институт, подала документы на заочное отделение и поехала к родителям.
Меня с радостью приняли на работу в крупную швейную фабрику, где работала мама, на должность бригадира пошивочной бригады. В моем подчинении оказалось 100 человек рабочих на конвейере по пошиву мужского пальто. Я не зря проходила практику в Харькове, поэтому владела всеми операциями, знала технологию и быстро втянулась в работу. Хотя физически мне было очень трудно, потому что бригадир весь день на ногах, очень напряженно следит, чтоб конвейер работал слаженно, без перегрузок, быстро устранялись возникающие дефекты. А также следил, чтоб продукция выходила с конвейера группами по накладным, чтоб ни одно изделие из группы не отстало, чтобы вовремя исправлялось то, что не принято браковщиком. Если хоть одно изделие к концу смены отставало, я должна была оставить всю группу по накладной следующей смене. А это означало невыполнение плана, за что начальство очень жестко наказывало. К тому же нагнать потом месячный план было очень трудно.
Начальником нашего цеха была злая и грубая Лычкова – женщина предпенсионного возраста, очень уставшая от жизни и ненавидевшая, кажется, всех вокруг. Поэтому на ее проработку попадать очень не хотелось. Рабочий день бригадира был дольше, чем у рабочих, потому что приходилось до включения конвейера принять и разложить крой, проверить, все ли явились на работу, заменить отсутствующих резервистами, а если их не хватало, распределить работу отсутствующего по тем, кто способен помочь. А после выключения конвейера отправить скомплектованную продукцию по транспортеру к приемщику готовой продукции и сдать по накладным. Поэтому домой я приходила очень уставшая и, прежде, чем садиться к столу, ложилась отдохнуть. Мама меня не понимала, она 8 часов спокойно сидела за машинкой и строчила, не тратя столько сил как я. На заочную учебу у меня не оставалось ни сил, ни времени. Моя зарплата была 750 рублей, и отец требовал, чтоб я все отдавала ему. Да мне и не на что было их тратить. Выходной был один, и его я тратила на учебу. Но вскоре поняла, что такую учебу с такой работой я не осилю, а получение инженерного диплома не изменит мою работу, от которой я не получала удовлетворения. Я мечтала о творческой работе, а не о карьере.