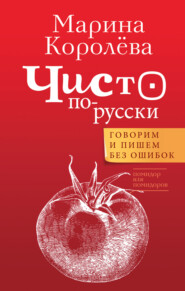По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Верещагин и другие. Роман и три пьесы для чтения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так какие проблемы? – он пожал плечами. – Теперь я вас познакомил. Если будут у него концерты – сходишь. Мать говорила, его нечасто играют, но бывает. Ты же ходишь в консерваторию? Ну вот и пойдешь, билеты он для тебя оставит.
Да, я ходила, эта привычка у меня осталась с детства.
– Ну вот, а тут ему только позвонить. Он будет рад. Не думаю, что на его концертах много зрителей, – усмехнулся муж.
– Слушателей.
– А, какая разница! Это слова всё, слова. По словам ты у нас специалист, я в этом ничего не понимаю, я больше по числам.
Числа нас и познакомили.
Про музыкальное училище я действительно заставила себя забыть после той четверки по сольфеджио. «Никакой музыки больше», – мне пришлось повторить это себе много раз, прежде чем я перестала ежедневно заниматься, что делала до этого всю сознательную жизнь, с первого класса музыкальной школы.
Оставалась ерунда – понять, что я буду делать дальше. Задумалась было о журфаке, но тут вмешалась любимая учительница литературы:
– Деточка моя, ну зачем на журфак? Как же я не люблю журналистов! Вечно у них на одно слово правды три слова вранья… Вот на филологический – другое дело, станете хорошим критиком.
Слово «критик» меня пугало. Я стала искать дальше и нашла математическую лингвистику.
Это название насторожило родителей. Нет ли тут какой идеологической диверсии? Они как раз вернулись из очередной загранкомандировки и нашли меня, как сказал отец, «совершенно отбившейся от рук», хотя к их рукам прибиться мне было просто некогда, даже если бы я захотела: вся их жизнь проходила в таких командировках. Мы оставались с бабушкой. Они приезжали в отпуск раз в год и за это время судорожно пытались заново со мной познакомиться и хоть как-то скорректировать те искривления, которые я, по их мнению, допустила. Понятно, что таких искривлений становилось все больше, особенно идеологических. Я-то никаких искривлений не замечала, они и были моя жизнь.
Так вот, математическая лингвистика. Месячного отпуска родителям хватило, чтобы смириться с этим названием, и они отбыли в очередную командировку. К счастью, бабушке смиряться не требовалось, таких слов она не заучила бы ни за что.
Я поступила, чудом проскочив экзамен по математике, которого боялась как огня. Поступила – и тут уж настала моя очередь приходить в ужас. Теперь я, совсем как моя бабушка, обмирала при словах «дефиниция», «корреляция», «дихотомия», «сонорность». Как моим родителям, мне понадобился чуть ли не месяц, чтобы свыкнуться с тем, что я уже здесь, это теперь моя жизнь на пять лет и все эти слова тоже мои, деваться некуда.
Чего я ни за что не сказала бы своим идеологически выдержанным родителям, так это того, что факультет оказался насквозь диссидентским. Мы учились по затертым ксероксам уехавших, а потому запрещенных лингвистов. Их учебники были изъяты из всех библиотек, и один бог знает, как их вообще сохранили. Никто на факультете в жизни не вступил в партию. Были уехавшие, были уезжающие, были те, кто собирался уезжать. Те, кто оставался, и здесь жили как в отъезде, пересекаясь с окружающим миром только в случае крайней нужды. Преподаватели, понижая голос, иногда передавали друг другу то «привет от Жолковского», то «привет от Бори, помнишь, Бори Гройса»…
Они, как и мы, были уверены, что это навсегда. Я помню тот день, на первом курсе. В аудиторию вошла Ариадна (так мы все ее звали), прямая, с пучком совершенно седых волос на затылке, обвела нас своим прозрачно-голубым взглядом и спросила:
– Вы уже знаете?
Мы или не знали, или не поняли, о чем она.
– Он умер.
Он – это тогдашний вождь, который, конечно, давно уже дышал на ладан, но всем казалось, что он никогда не умрет, так и будет вечно произносить свои бессмысленные речи, больше похожие на жевание тянучек. Он будет делать вид, что произносит речи, а мы будем делать вид, что слушаем, если перифразировать известный анекдот.
Я помню и то, что мы сделали в ответ. Мы закричали «ура» и зааплодировали.
Ариадна улыбнулась, но как-то грустно.
– Милые дети, – сказала она, снова обводя нас взглядом, медленно, останавливаясь на каждом, – если бы вы жили в России долго, как я, то знали бы, что все перемены здесь всегда только к худшему.
И мы приступили к старославянским текстам. Ариадне мы, конечно, не поверили. Мы очень хотели перемен.
Пока, в ожидании, надо было просто учиться и сдавать экзамены. Например, математику. О, вот что стало моим настоящим кошмаром. В названии «математическая лингвистика» я предпочла не заметить первое слово, решив, что как-нибудь справлюсь. Теперь это слово надвигалось на меня каждую сессию, закрывая небо! Матлогику я кое-как сдала, с трудом, но сдала и теорию вероятностей. А вот на линейной алгебре застряла, и надолго. Я сдавала этот несчастный зачет, всего лишь зачет, целых пять раз!
Надо сказать, и преподаватель был не рядовой. Он входил на очередную лекцию, не обращая на нас никакого внимания, не здороваясь, проходил к доске, вставал к нам спиной и начинал писать: слева направо, убористо, строка за строкой. Когда он исписывал доску, то стирал это и опять начинал сверху. Иногда что-то бормотал. Потом звенел звонок, и он немедленно останавливался – закончил или не закончил. И тут же, не глядя на нас, выходил. Мы всерьез спорили, не робот ли он, тем более вместо одной руки у него был протез. Кстати, этой рукой (на протезе была черная перчатка) он и писал.
Предчувствия у нас были самые нехорошие. Как мы будем сдавать ему зачет?! Вся тетрадь была у меня исписана его формулами, которые я аккуратно копировала с доски, но что мне было с ними делать? Выучить невозможно, понять – тем более. Боялись мы не зря. Впрочем, были среди нас математические гении (только так я могла называть тех, кто понимает линейную алгебру), они и сдали роботу зачет в первых рядах. Потом пошли такие как я. Четырежды повторялась одна и та же история: я начинала отвечать на вопрос билета, робот слушал, удовлетворенно кивал, потом мы доходили до какой-нибудь формулы, и он спрашивал:
– А вот здесь что?
Я немедленно сбивалась. Я могла рассказывать только подряд, по своей записи. И тут он переключался на урчание, а потом сразу на визг:
– Нет! Вы не знаете! Вон!
И я уходила. Сессия давно закончилась, прошли каникулы, шел второй семестр, а я все пыталась сдать линейную алгебру.
На пятый раз я пришла сдавать этот треклятый зачет совершенно уверенная, что все повторится. И вдруг вместо нашего робота в аудиторию вошел совсем другой человек – молодой, в очках. Главное, он был все-таки точно человек, с человеческими повадками и без устрашающего протеза. В остальном – ну, математик…
– Аспирант, наверное… – прошептала моя подруга, которой тоже не удавалось пробить эту стену под названием «линейная алгебра».
Молодой человек поздоровался, разложил на столе билеты, назвался и сказал, что сегодня по просьбе своего профессора зачет будет принимать он, профессор на конгрессе.
Я взяла билет, начала готовиться. Подошла моя очередь. Я села напротив экзаменатора. Не знаю, что выражал мой взгляд – отчаяние? мольбу? – но он долго не прерывал мой заученный ответ. Потом все-таки прервал:
– А вот здесь у вас что?.. – он показал пальцем строчку.
Я запнулась.
– Ну, что? – спросил он мягко. – Вы же знаете, я уверен. Ну?..
Он смотрел на меня с такой надеждой, как будто это ему, а не мне надо было во что бы то ни стало сдать эту мерзость! Но я уже поняла: нет, я не сдам ее никогда. Теперь на лице у меня точно было отчаяние. Я положила перед ним свою тетрадь, исписанную формулами.
– Вот. Я была на всех занятиях. Не пропустила ни одного. Я всё записывала. Я сделала всё что могла. Но я ничего не понимаю в вашей линейной алгебре! Я ни за что ее не сдам, ни за что. Извините. Я пойду.
Он посмотрел на меня очень внимательно. Потом бросил взгляд на аудиторию. Нет, никто не слышал моей эскапады, все готовились к своим билетам.
Я выскочила в коридор и только там вспомнила, что забыла зачетку и тетрадь на столе у аспиранта (если он, конечно, действительно был аспирант). Ну и ладно, подумала я, все равно подругу собиралась ждать. Торопиться теперь мне было некуда, я вообще не знала, чем заканчиваются истории с несданными зачетами – может, меня уже завтра исключат. Заходить в аудиторию снова мне не хотелось. Нет, потом подругу попрошу забрать. И тут дверь открылась. Вышел наш аспирант. Огляделся по сторонам, подошел ко мне:
– Вот ваша тетрадь, я посмотрел, все конспекты в порядке.
– Я знаю.
– А вот зачетка. У вас там пятерки в основном, да?
– Есть и четверки, но мало. В основном по математике, – сказала я тихо.
– Я и говорю, зачетка у вас хорошая. Ну, успехов вам. Рад был познакомиться.
Он помедлил секунду, кивнул и вернулся в аудиторию.
Я плохо понимала, что он мне сказал. Хорошая зачетка – это ирония, что ли? Для того, кому грозит исключение из университета, это в самый раз.
Я механически пролистала свою зачетку: отлично, отлично, отлично, хорошо, отлично, отлично… И на страничке зачетов вдруг увидела: «Линейная алгебра – ЗАЧЕТ». Сегодняшнее число и подпись.
Подруга, которая вышла следом и тоже с зачетом (надо надеяться, более заслуженным), наверняка решила, что со мной что-то не так: я сидела в коридоре на корточках, у стены, и, раскачиваясь, смотрела в раскрытую зачетку. Я просто не могла оторвать взгляд от этой страницы.