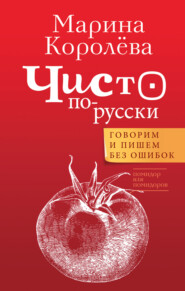По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Верещагин и другие. Роман и три пьесы для чтения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бросил. Болел.
Вот это было другое, да: от него не пахло табаком, а тогда все было прокурено – волосы, щеки, пиджак, свитер под пиджаком, пальцы.
В коридоре кто-то ходил, слышно было, как подошли к двери, постояли, снова ушли. Слава богу, никто не стучал.
И тут он тихонько отстранился, посмотрел уже пронзительно, по-своему:
– Так все-таки почему ты пришла?
Я могла сказать что угодно: хотела тебя увидеть, хотела услышать концерт, да я вообще здесь по работе, со съемочной группой, – и все это было бы правдой, но и враньем было бы тоже, а врать ему я не умела. Он и тогда видел меня насквозь, хоть и ворчал, что не понимает моих безумных поступков.
Я потерлась щекой о его пиджак – жесткий, как бывает щетина на щеке.
– Я хочу знать, что будет дальше. И еще – вот…
Часть I. Анданте
Я вышел из аудитории, где весь день шли приемные экзамены.
Наше знаменитое здание в старинном переулке гудело и переливалось на разные голоса. С четвертого этажа раздавалась труба, на втором распевалась будущая (если примут) вокалистка, на первом повторяли что-то из «Хорошо темперированного клавира». Все это сначала размешивалось в густом июльском зное и только потом взлетало к небу – вернее, к тому прямоугольнику вместо неба, который выреза?ли здесь дома.
Когда-то я любил это время. Любил, когда в училище на первом этаже вывешивали списки абитуриентов, и начиналось: консультации, экзамены, пугливые толпы возле аудиторий, родители с термосами и бутербродами для измученных гениев (а они все гении!). Сколько я их перевидал, и гениев, и их родителей… Я и сам был гений. Шучу.
Но сегодня я ничего этого не любил. Впрочем, почему сегодня? И вчера, и неделю, и год назад. Я устал.
Я не заметил, как оказался на улице. Всё, на сегодня это закончилось. Если бы завтра можно было не просыпаться, не открывать глаза, а так и лежать в своей берлоге – грязновато, зато прохладно – и не видеть, не думать. Я так живо себе это представил, что даже прищурился. И тут сквозь прищур увидел девочку на парапете. Плачет, что ли?
Ох, я знал это неизбывное горе: трагедия! крах! катастрофа! Мамы с валерьянкой, бабушки плачут. Не расстраивайся, детка, еще годик позанимаемся с педагогом – и обязательно поступишь! Почему-то при этих словах рыдания становились только сильнее. Годик?! Да это же вечность! Помню, всё помню. Мне тоже год казался вечностью, это теперь время идет как электричка без остановок.
Девочка плакала. Без всхлипов, тихо, но как-то отчаянно: она пыталась зажать слезы ладонями, это плохо у нее получалось, слезы все равно просачивались. И еще она качала головой, как будто говорила: нет-нет-нет, нет-нет…
Проклиная все на свете, я направился к ней. Дурак, говорил я себе, пока шел, профессор чертов, чего ты ввязываешься? Иди себе домой. Что ты ей скажешь? Что она позанимается с педагогом и через годик поступит? Это ей мать пусть говорит.
Девочка не поднимала головы, хотя я стоял уже прямо над ней, заслонив солнце.
– У вас случилось что-то? Не сдали экзамен?
Она сделала то же движение головой: нет-нет-нет, нет-нет. Все пальцы у нее были мокрые.
– Послушайте, что вы сдавали?
Девочка еще яростнее прижала руки к лицу.
– Со… сольфеджио…
Всхлип – и она опустила руки. Медленно, как стягивают с трупа простыню.
Ну конечно, сольфеджио. Значит, мне она его и сдавала. Я сам себе поразился: не помню. Я ее не помню! Впрочем, кого из них сегодня я запомнил, скажите мне? Ни-ко-го. Но она-то меня, конечно, помнила, еще бы. Профессор. Их много – я один.
– И что мы вам поставили?
Тут я наконец увидел ее глаза. Собственно, единственное, что можно было увидеть на опухшем мокром лице.
– А вы разве не помните?
Что я мог ей ответить? Я помолчал немного, подбирая слова. Не подобрал, поэтому и повторил вопрос:
– Так что мы поставили?
– Четыре.
Четыре? И она еще ревет! Конечно, пять было бы лучше, конкурс большой, но и с четверкой не все потеряно. Ничего не понимаю.
– А вы пять, что ли, хотели?
– Конечно.
– До такой степени хотели, что надо теперь вот так убиваться? Да ведь ничего еще не потеряно, – повторил я слова из собственных мыслей.
– Всё потеряно, всё!
Она пыталась удержать слезы, кусала губы – профессор все-таки, – но ей это плохо удавалось, слезы лились.
– Да почему потеряно? У вас же еще два экзамена.
– Нет. Всё. Я не пойду, – она снова отчаянно затрясла головой: нет-нет-нет, нет-нет.
Тут я припомнил.
– Подождите, это не у вас абсолютный слух? Она снова подняла на меня глаза – как мне показалось, испуганно.
– Ну абсолютный. Вот скажите, зачем он мне?!
Да, точно, вспомнил. Ассистент мне шепнул: «Кажется, абсолютный слух…» И я кивнул – а ну-ка проверьте. Встал из-за стола и вышел покурить. Потом еще спросил: ну как там с абсолютным слухом? Ассистент покачал головой: абсолютный-то абсолютный, но есть другие проблемы. И я тут же забыл про это, я думал о своем. Потом подписал ведомость – и вот, вышел на улицу.
Страшно захотелось курить. Я нащупал свою сигарету в кармане (без фильтра, без фильтра!), зажигалку, закурил. Так-то будет лучше.
– Абсолютный слух – это же прекрасно! Редкость. У меня вот нет абсолютного, хоть и композитор.
– А зачем он мне, – повторила она, – если я всё слышу и не могу потом напеть на экзамене простой аккорд?
– Почему?
– Не знаю. Когда волнуюсь, начинаю фальшивить, голос срывается или вообще пропадает. Вот как сегодня. Врач говорит, несмыкание связок.
Я снова почувствовал страшную усталость. Ну, сказать ей напоследок что-нибудь… утешительное – и домой.
– Послушайте, вам сколько лет?