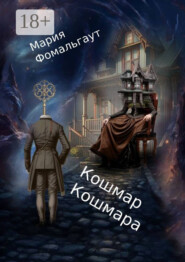По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Луна. Рассказанная вкратце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гул в зале.
Свиристят, стрекочут, так и набросятся на меня.
Мертвый вздрагивает.
Поднимается.
Толпа шарахается в стороны, верещит, цвиркает, стрекочет.
Замираю.
Все разом оборачиваются ко мне. Задним числом спохватываюсь, что музыка смолкла, выдохлась, умерла. Еще волоку свои руки к клавишам, руки не слушаются, сейчас оторвутся от тела и убегут, перебирая измученными пальцами.
Краем глаза вижу шефа, не того, умершего, а нового. Вон он несется ко мне, злой, взъерошенный, вот так, как сменить меня за клавишами, так это мы ленимся, а как порядки наводить, это мы всегда пожалуйста.
Бежать.
Все внутри вопит – бежать, бежать, бежать. И уже знаю, не убегу, это у нас в крови, выдрессировали намертво, когда шеф отчитывает – стой и молчи…
Умерший встает, отряхивается, отфыркивается. Вижу, как царь спешит к наследнику.
Шеф хватает меня за плечи.
– Ты… ты что играл?
– Сфальшивил, сфальшивил я…
– Да ясен пень, сфальшивил, играл что, спрашиваю?
– Эту… мелодию города… под которую город строится…
– Оо-о-о-ох, дебилище долбанное, ты что сейчас сыгранул, когда пальцы свои не на ту клавишу сунул?
– Н-не помню…
– Не помнит он… ты хоть понимаешь, что сделал, чучелко ты гороховое? Ты же мертвого воскресил. Ты… ты что играл-то?
– …не помню.
Слепящий свет бьет в глаза, что за черт, вроде бы не люди, а замашки на допросе, как у нашего брата. Или это они у нас научились человеку в глаза светом бить.
– Может… сначала все сыграете?
Чувствую, что если начну играть сначала, точно умру.
– Не… не могу.
– А вы попробуйте.
Кто-то тащит меня к клавишам, кто-то сажает меня за инструмент – играй.
Не играю. Безвольно кладу руки на колени, не двигаюсь. Вот хоть бейте меня сейчас, не буду играть. Даже не просите. Так сидел, когда АннаПална к нам домой приходила, и начиналось, гаммы, гаммы, гаммы, и вот так же сидел, руки по швам, и мать вопит, да что за ребенок, ты меня в гроб загонишь, и АннаПална орет, такой сын маме не нужен, и все орут, и сижу, и хоть что со мной делайте, не буду играть. Так и отстали со своим пианино, так и отстали. Это потом уже, в молодости сам прикасался к клавишам, перебирал аккорды Лунной Сонаты…
Кто-то хлещет меня толстым усом по спине. Это что-то новенькое. Еще. Еще. Терплю, понимаю, что если сейчас сдамся, точно изведут меня этой музыкой.
Полицейский хочет хлестнуть меня в третий раз, кто-то одергивает его, нельзя, нельзя, человека загубишь. Поддакиваю, сгибаюсь пополам, делаю вид, что мне плохо, нельзя так человека бить, вы что…
– Что… – полицейский поднимается на тонкие ножки, впивается мне в плечи, – что вы… играли?
Еле выжимаю из себя:
– Не помню.
Они отступают. Обреченно. Отползают. Кто-то из них голосит, отчаянно, сильно, догадываюсь – этот кто-то недавно похоронил кого-то из близких…
– Нет… не помню.
Иду домой. Уже знаю, что все от мала до велика провожают меня взглядами.
Иду домой по темной улице.
Не боюсь.
Я знаю, если что-то случится, они не дадут мне умереть.
Не дадут.
В памяти слова шефа, сказанные в ту ночь, звенят, не уходят из сознания:
– И даже говорить не смей, что знаешь… Они ж тебя живым не оставят, они ж тебя сразу… как свидетеля ненужного… усек?
Усек, где тут не усечь. Понимаю, что вляпался в историю, и в историю очень серьезную. Это тебе не по клавишам бить, дома строить, города возводить, это тебе не создавать из ничего летучие корабли, это тебе не накрывать пустой стол несколькими аккордами. Это…
Пытаюсь представить себе, что я сделал.
Мне становится страшно.
– А как давно умершего можно воскресить?
Отчаянно мотаю головой.
– Не… не понял вопроса.
– Ну… вы можете воскресить того, кто умер сто лет назад?
Снова мотаю головой.
– Ой, нет.
Свиристят, стрекочут, так и набросятся на меня.
Мертвый вздрагивает.
Поднимается.
Толпа шарахается в стороны, верещит, цвиркает, стрекочет.
Замираю.
Все разом оборачиваются ко мне. Задним числом спохватываюсь, что музыка смолкла, выдохлась, умерла. Еще волоку свои руки к клавишам, руки не слушаются, сейчас оторвутся от тела и убегут, перебирая измученными пальцами.
Краем глаза вижу шефа, не того, умершего, а нового. Вон он несется ко мне, злой, взъерошенный, вот так, как сменить меня за клавишами, так это мы ленимся, а как порядки наводить, это мы всегда пожалуйста.
Бежать.
Все внутри вопит – бежать, бежать, бежать. И уже знаю, не убегу, это у нас в крови, выдрессировали намертво, когда шеф отчитывает – стой и молчи…
Умерший встает, отряхивается, отфыркивается. Вижу, как царь спешит к наследнику.
Шеф хватает меня за плечи.
– Ты… ты что играл?
– Сфальшивил, сфальшивил я…
– Да ясен пень, сфальшивил, играл что, спрашиваю?
– Эту… мелодию города… под которую город строится…
– Оо-о-о-ох, дебилище долбанное, ты что сейчас сыгранул, когда пальцы свои не на ту клавишу сунул?
– Н-не помню…
– Не помнит он… ты хоть понимаешь, что сделал, чучелко ты гороховое? Ты же мертвого воскресил. Ты… ты что играл-то?
– …не помню.
Слепящий свет бьет в глаза, что за черт, вроде бы не люди, а замашки на допросе, как у нашего брата. Или это они у нас научились человеку в глаза светом бить.
– Может… сначала все сыграете?
Чувствую, что если начну играть сначала, точно умру.
– Не… не могу.
– А вы попробуйте.
Кто-то тащит меня к клавишам, кто-то сажает меня за инструмент – играй.
Не играю. Безвольно кладу руки на колени, не двигаюсь. Вот хоть бейте меня сейчас, не буду играть. Даже не просите. Так сидел, когда АннаПална к нам домой приходила, и начиналось, гаммы, гаммы, гаммы, и вот так же сидел, руки по швам, и мать вопит, да что за ребенок, ты меня в гроб загонишь, и АннаПална орет, такой сын маме не нужен, и все орут, и сижу, и хоть что со мной делайте, не буду играть. Так и отстали со своим пианино, так и отстали. Это потом уже, в молодости сам прикасался к клавишам, перебирал аккорды Лунной Сонаты…
Кто-то хлещет меня толстым усом по спине. Это что-то новенькое. Еще. Еще. Терплю, понимаю, что если сейчас сдамся, точно изведут меня этой музыкой.
Полицейский хочет хлестнуть меня в третий раз, кто-то одергивает его, нельзя, нельзя, человека загубишь. Поддакиваю, сгибаюсь пополам, делаю вид, что мне плохо, нельзя так человека бить, вы что…
– Что… – полицейский поднимается на тонкие ножки, впивается мне в плечи, – что вы… играли?
Еле выжимаю из себя:
– Не помню.
Они отступают. Обреченно. Отползают. Кто-то из них голосит, отчаянно, сильно, догадываюсь – этот кто-то недавно похоронил кого-то из близких…
– Нет… не помню.
Иду домой. Уже знаю, что все от мала до велика провожают меня взглядами.
Иду домой по темной улице.
Не боюсь.
Я знаю, если что-то случится, они не дадут мне умереть.
Не дадут.
В памяти слова шефа, сказанные в ту ночь, звенят, не уходят из сознания:
– И даже говорить не смей, что знаешь… Они ж тебя живым не оставят, они ж тебя сразу… как свидетеля ненужного… усек?
Усек, где тут не усечь. Понимаю, что вляпался в историю, и в историю очень серьезную. Это тебе не по клавишам бить, дома строить, города возводить, это тебе не создавать из ничего летучие корабли, это тебе не накрывать пустой стол несколькими аккордами. Это…
Пытаюсь представить себе, что я сделал.
Мне становится страшно.
– А как давно умершего можно воскресить?
Отчаянно мотаю головой.
– Не… не понял вопроса.
– Ну… вы можете воскресить того, кто умер сто лет назад?
Снова мотаю головой.
– Ой, нет.