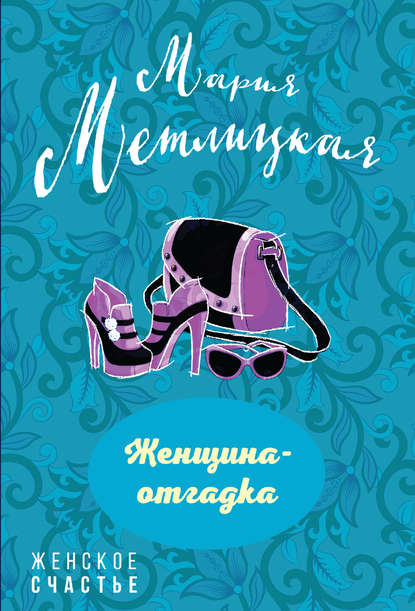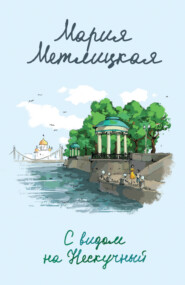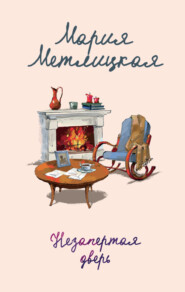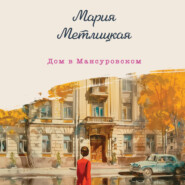По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Женщина-отгадка (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потом она собралась в какой-то дацан – в Улан-Удэ, что ли. С каким-то Николаем и его сестрой Таей. Те были буддистами. И что-то там сорвалось. Слава богу. Какие буддисты, какой дацан? Свихнуться можно. Еще стала почитывать какие-то брошюрки, пряча их в свою тумбочку. Однажды он вытащил их – очередная белиберда: адвентисты седьмого дня приглашали ее в свое «лоно».
Он порвал тогда эти писульки и выкинул. Она очень плакала, дурочка.
«Ясно», – кивнул тогда он и уехал на три дня на Волгу. Прийти в себя, порыбачить на даче сотрудника. Может, отойдет? Тоска отойдет, напряженка.
Отошло. Иногда думал: привязаны друг к другу толстенными канатами – не отвязать. Пятнадцать лет «общей» жизни. Вечность! Проросли друг в друга корнями – не разорвать. Только если рубить топором, по живому.
Он – молодой, по сути, мужик, сорок пять – тьфу, чепуха! Прожить две полноценные мужские жизни – да раз плюнуть! Завести молодую жену, родить пару-тройку детей…
С нуля, с чистого листа – без помарок.
А ее оставить в прошлой жизни. Почти наверняка – одну навсегда. С ее-то натурой… Вряд ли она сможет устроить личную жизнь – сорок два года для бабы… Ну, почти каюк, кранты. Редкий ведь случай. И не для нее, Риты!
И живо представил – сухонькая, одинокая, стареющая женщина. Одна во вселенной. Ну, может быть, с кошкой…
Старые, пожелтевшие газеты на тумбочке в коридоре, запах заваренной валерьянки и вареного хека для кошки. Десятилетней давности плащ на крючке и стоптанные ботиночки – почти мальчиковые, удобные, плоские – всесезонные.
Что она сможет еще позволить на жалованье учителя хореографии?
И будет она истончаться, стареть – медленно, но бесповоротно. И станет почти бесплотной старушкой, с трудом выходящей в полдень за хлебом. Вязаная шапочка из дешевой шерсти с оптового рынка. Суконная юбка, плешивая шубка.
Нет! Да пошли вы все к черту. Значит, так – как дадено богом. Значит, вместе и до конца. Потому, что «проживать» он ту, другую, жизнь просто не сможет! Не может, потому что… Любит? Жалеет? Богом даденная жена? Да все вместе – наверное, так… И любит, и жалеет, и жена… Просто с годами все так трансформируется… Концов не найдешь – где любовь, а где жалость. И еще – где привычка!
Или он слишком хорошего мнения о себе? Понимает ведь, что жизнь их, семейная, личная, так сказать, интимная (Фу! Совсем противно!) закатилась в тупик. Стоит там как ржавый, давно списанный паровоз и ждет своей участи – то ли на металлолом, то ли так и сгниет в темном отстойнике сам по себе…
А тут, когда все вроде бы чуть успокоилось – ну, живут разной жизнью, каждый сам по себе, – да такое ведь сплошь и рядом, – однажды сказала:
– А давай съездим в Иерусалим? Ну, просто еще раз попробуем… Мне кажется…
Тут он перебил ее, и довольно резко:
– Съездим! – И по складам: – Раз. Тебе. Ка-же-тся.
Сначала злился – задолбали его эти «кажется» и «а вдруг». А потом подумал – осень, есть десять дней отпуска. Море еще теплое. Ну, наконец, повидает друзей – Борьку, Наташку. Да и сам город – грех не увидеть. В общем, как ей откажешь – поехали!
Они проснулись, услышав звонкий голос Наташки – она бесцеремонно засунула кудрявую голову в комнату и улыбнулась.
– Вы что, идиоты? Спать, что ли, сюда приехали?
Жаров вскочил, наспех умылся и бросился в ее крепкие объятия. Наташка почти не менялась – те же кудри, те же объемная пятая точка и пышная грудь. Только везде прибавилось, разумеется. Она накрывала на стол и тараторила, тараторила…
Вышла Рита, и все наконец уселись. Попробовали местные специалитеты: пасту из гороха – со стойким вкусом орехов, баклажаны пяти, наверное, видов – в майонезе, с орехами, морковью, чесноком и прочей чепухой. А дальше было все знакомо и привычно – картошка с соленой скумбрией, салат, курица из духовки. Пили пиво и по чуть-чуть водки.
Наташка рассказывала про работу, общих знакомых, сына Димку и хвалила страну.
Борька скептически усмехался и восторгов жены, похоже, не разделял.
Наташка вообще была из тех, кто видит одно хорошее – вот уж счастливая способность, что говорить! Квартира мала? Не на улице! А что, в Москве была больше? А в Москве мы бы жили с Борькиной мамой.
– Да, Борюсь?
«Борюсь» вяло пожимал плечами.
– Жарко? Это да! Но для меня это лучше, чем московская слякоть и снег. Тяжело работаем? Господи, да где же легко? Все сейчас пашут как проклятые! Все и везде. Зато море – это раз! Сели в машину – и через час на море. Продукты – это два! Молочко и фрукты – язык проглотишь! А медицина? – Наташка совсем распалилась. – Мама вот пишет, что у вас…
– Наташ! – перебил ее Жаров. – Да все хорошо. Ты не горячись так. И не уговаривай – мы сюда насовсем не собираемся. А что тебе тут прикольно, так мы очень рады! Правда, Ритуль?
Рита кивнула.
Димка, сын Наташки и Борьки, служил в армии и приходил домой на выходные, так что встреча с ним временно откладывалась.
Наташка накрыла чай и наконец притихла.
– А какие планы? Вообще? Что посмотреть хотите, куда съездить? Может, взять вам экскурсии?
Рита мотнула головой и посмотрела на мужа. Жаров отвел глаза.
– Мы сами, Наташ. Спасибо. Сами разберемся.
Наташка пожала плечами и стала убирать со стола. Жарову показалось, что она слегка обижена.
Утром проснулись от такого яркого солнца, от какого, конечно, не спасали легкие бамбуковые жалюзи.
Жаров подошел к окну, потянулся и стал глазеть на улицу. Улица была пуста, по ней проезжали лишь редкие машины.
Они выпили кофе, надели удобную обувь и заказали такси.
– Старый город, – коротко объяснил Жаров таксисту, похожему на индуса.
Таксист включил индийскую музыку.
– Откуда здесь индус? – удивленно пробормотал Жаров.
– Они везде, – объяснила жена, – индусы и китайцы. Везде, во всем мире.
Иерусалим переливался под солнцем – желто-белый, как сливочная помадка, яркий, несмотря на отсутствие красок. Одинаковый, но совсем не монотонный. Периодически, точно огни иллюминации, вспыхивали кусты бугенвиллей – красные, розовые, малиновые, оранжевые и белые.
А впереди уже показалась стена Старого города. Почему-то заныло сердце – тревожно и сладко.
Они вышли из машины и пошли пешком – дальше проезд был закрыт.
Узкие улочки перегораживали шумные толпы туристов. Звучала пестрая речь – английская, французская, испанская, итальянская. И, разумеется, родная русская.
Все одинаково задирали головы вверх, кивали, слушая экскурсовода, и наводили объективы камер и фотоаппаратов.
– Куда? – спросил он у Риты. – Сначала – куда?
Она как-то сжалась, напряглась, заглянула в блокнот, потом в карту и тихо сказала:
Он порвал тогда эти писульки и выкинул. Она очень плакала, дурочка.
«Ясно», – кивнул тогда он и уехал на три дня на Волгу. Прийти в себя, порыбачить на даче сотрудника. Может, отойдет? Тоска отойдет, напряженка.
Отошло. Иногда думал: привязаны друг к другу толстенными канатами – не отвязать. Пятнадцать лет «общей» жизни. Вечность! Проросли друг в друга корнями – не разорвать. Только если рубить топором, по живому.
Он – молодой, по сути, мужик, сорок пять – тьфу, чепуха! Прожить две полноценные мужские жизни – да раз плюнуть! Завести молодую жену, родить пару-тройку детей…
С нуля, с чистого листа – без помарок.
А ее оставить в прошлой жизни. Почти наверняка – одну навсегда. С ее-то натурой… Вряд ли она сможет устроить личную жизнь – сорок два года для бабы… Ну, почти каюк, кранты. Редкий ведь случай. И не для нее, Риты!
И живо представил – сухонькая, одинокая, стареющая женщина. Одна во вселенной. Ну, может быть, с кошкой…
Старые, пожелтевшие газеты на тумбочке в коридоре, запах заваренной валерьянки и вареного хека для кошки. Десятилетней давности плащ на крючке и стоптанные ботиночки – почти мальчиковые, удобные, плоские – всесезонные.
Что она сможет еще позволить на жалованье учителя хореографии?
И будет она истончаться, стареть – медленно, но бесповоротно. И станет почти бесплотной старушкой, с трудом выходящей в полдень за хлебом. Вязаная шапочка из дешевой шерсти с оптового рынка. Суконная юбка, плешивая шубка.
Нет! Да пошли вы все к черту. Значит, так – как дадено богом. Значит, вместе и до конца. Потому, что «проживать» он ту, другую, жизнь просто не сможет! Не может, потому что… Любит? Жалеет? Богом даденная жена? Да все вместе – наверное, так… И любит, и жалеет, и жена… Просто с годами все так трансформируется… Концов не найдешь – где любовь, а где жалость. И еще – где привычка!
Или он слишком хорошего мнения о себе? Понимает ведь, что жизнь их, семейная, личная, так сказать, интимная (Фу! Совсем противно!) закатилась в тупик. Стоит там как ржавый, давно списанный паровоз и ждет своей участи – то ли на металлолом, то ли так и сгниет в темном отстойнике сам по себе…
А тут, когда все вроде бы чуть успокоилось – ну, живут разной жизнью, каждый сам по себе, – да такое ведь сплошь и рядом, – однажды сказала:
– А давай съездим в Иерусалим? Ну, просто еще раз попробуем… Мне кажется…
Тут он перебил ее, и довольно резко:
– Съездим! – И по складам: – Раз. Тебе. Ка-же-тся.
Сначала злился – задолбали его эти «кажется» и «а вдруг». А потом подумал – осень, есть десять дней отпуска. Море еще теплое. Ну, наконец, повидает друзей – Борьку, Наташку. Да и сам город – грех не увидеть. В общем, как ей откажешь – поехали!
Они проснулись, услышав звонкий голос Наташки – она бесцеремонно засунула кудрявую голову в комнату и улыбнулась.
– Вы что, идиоты? Спать, что ли, сюда приехали?
Жаров вскочил, наспех умылся и бросился в ее крепкие объятия. Наташка почти не менялась – те же кудри, те же объемная пятая точка и пышная грудь. Только везде прибавилось, разумеется. Она накрывала на стол и тараторила, тараторила…
Вышла Рита, и все наконец уселись. Попробовали местные специалитеты: пасту из гороха – со стойким вкусом орехов, баклажаны пяти, наверное, видов – в майонезе, с орехами, морковью, чесноком и прочей чепухой. А дальше было все знакомо и привычно – картошка с соленой скумбрией, салат, курица из духовки. Пили пиво и по чуть-чуть водки.
Наташка рассказывала про работу, общих знакомых, сына Димку и хвалила страну.
Борька скептически усмехался и восторгов жены, похоже, не разделял.
Наташка вообще была из тех, кто видит одно хорошее – вот уж счастливая способность, что говорить! Квартира мала? Не на улице! А что, в Москве была больше? А в Москве мы бы жили с Борькиной мамой.
– Да, Борюсь?
«Борюсь» вяло пожимал плечами.
– Жарко? Это да! Но для меня это лучше, чем московская слякоть и снег. Тяжело работаем? Господи, да где же легко? Все сейчас пашут как проклятые! Все и везде. Зато море – это раз! Сели в машину – и через час на море. Продукты – это два! Молочко и фрукты – язык проглотишь! А медицина? – Наташка совсем распалилась. – Мама вот пишет, что у вас…
– Наташ! – перебил ее Жаров. – Да все хорошо. Ты не горячись так. И не уговаривай – мы сюда насовсем не собираемся. А что тебе тут прикольно, так мы очень рады! Правда, Ритуль?
Рита кивнула.
Димка, сын Наташки и Борьки, служил в армии и приходил домой на выходные, так что встреча с ним временно откладывалась.
Наташка накрыла чай и наконец притихла.
– А какие планы? Вообще? Что посмотреть хотите, куда съездить? Может, взять вам экскурсии?
Рита мотнула головой и посмотрела на мужа. Жаров отвел глаза.
– Мы сами, Наташ. Спасибо. Сами разберемся.
Наташка пожала плечами и стала убирать со стола. Жарову показалось, что она слегка обижена.
Утром проснулись от такого яркого солнца, от какого, конечно, не спасали легкие бамбуковые жалюзи.
Жаров подошел к окну, потянулся и стал глазеть на улицу. Улица была пуста, по ней проезжали лишь редкие машины.
Они выпили кофе, надели удобную обувь и заказали такси.
– Старый город, – коротко объяснил Жаров таксисту, похожему на индуса.
Таксист включил индийскую музыку.
– Откуда здесь индус? – удивленно пробормотал Жаров.
– Они везде, – объяснила жена, – индусы и китайцы. Везде, во всем мире.
Иерусалим переливался под солнцем – желто-белый, как сливочная помадка, яркий, несмотря на отсутствие красок. Одинаковый, но совсем не монотонный. Периодически, точно огни иллюминации, вспыхивали кусты бугенвиллей – красные, розовые, малиновые, оранжевые и белые.
А впереди уже показалась стена Старого города. Почему-то заныло сердце – тревожно и сладко.
Они вышли из машины и пошли пешком – дальше проезд был закрыт.
Узкие улочки перегораживали шумные толпы туристов. Звучала пестрая речь – английская, французская, испанская, итальянская. И, разумеется, родная русская.
Все одинаково задирали головы вверх, кивали, слушая экскурсовода, и наводили объективы камер и фотоаппаратов.
– Куда? – спросил он у Риты. – Сначала – куда?
Она как-то сжалась, напряглась, заглянула в блокнот, потом в карту и тихо сказала: