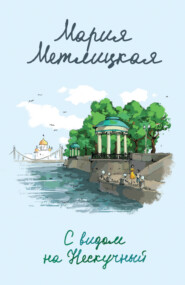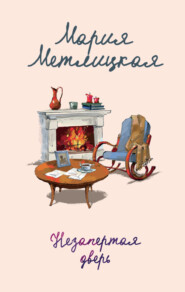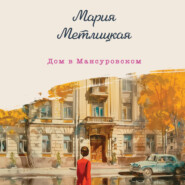По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Осторожно, двери закрываются
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, – обрадовался он, – может, попробуем?
Дочь равнодушно пожала плечом.
С виду стаканчики с крем-брюле были точь-в-точь как прежде: та же вафелька, тот же теплый кремовый цвет.
Погода благоприятствовала, отодвинулись тучи, и выглянуло солнце, клены шелестели золотистыми листьями, кусты багровели, а трава, ровный и четкий газон, оставалась зеленой.
– Красота, а? – Сев на лавочку, он блаженно прикрыл глаза. – Все как в той жизни.
Мороженое оказалось так себе, ни в какое сравнение. И он почему-то расстроился.
– Не то, совершенно не то. Подделка.
Катя равнодушно молчала.
– Или дело не в мороженом, а в нас самих? – продолжал он. – В детстве ведь и клубника слаще, и трава зеленее? Впрочем, трава здесь вполне зеленая. Но все равно красота, правда, Кать?
– Мне легче, – усмехнулась она. – Не с чем сравнивать.
– А ведь ты права! Сравнивать всегда глупо, потому что часто сравнение не в нашу пользу. Верно, Катюш?
Катя молча пожала плечами.
* * *
Еще тогда, в самом конце восьмидесятых, Свиридов все решил.
Почему, думал он, почему им все можно, а остальным нет? Им можно вкусно жрать, сладко спать, носить красивые вещи, жить в просторных квартирах, расслабляться в закрытых санаториях, а не ютиться в приморских шанхаях? Иметь собственные закрытые пляжи? Почему им можно летать за границу, тратить валюту, лечиться в закрытых больницах и поликлиниках? Почему им и их семьям полагаются машины и личные водители? Государственные дачи с прислугой, повара и садовники? Спецстоловые, продуктовые заказы необъятных размеров и невиданного ассортимента, распределители и прочее, прочее? Чем заслужили они, эта элита, номенклатура, аппаратчики? Что они делают для страны, для народа, все эти старые, шамкающие маразматики, отчаянные фигляры и лгуны? Разве им известно, что такое очереди, в которых простой народ проводит большую часть жизни? Что они знаю об обшарпанных бо?льничных палатах с неистребимыми запахами мочи, хлорки и тухлой капусты? Разве они сталкивались с отвратительным хамством, вечным унижением на любом уровне, на любом – от поликлиники до железнодорожных касс, от кабинета начальника ЖЭКа до рабочей столовой, где нахамить может даже уборщица? А простые граждане терпят это везде и всю жизнь, от детского сада до кладбища, где из скорбящей родни нагло вытягивают последние крохи.
Всюду взятки и блат. Лучшее знакомство – директор гастронома или обувного отдела, таким знакомством гордятся, как и дружбой с официантом, швейцаром и автослесарем.
Подмазать, задобрить, подмаслить, дать в лапу, сунуть в зубы, сунуть барашка в бумажке – всем и подряд: гаишнику, врачу, медсестре, администратору гостиницы, метрдотелю, театральному кассиру и кассиру в авиакассе. По-че-му все так уродливо, мерзко устроено, почему такая унизительная, несправедливая система?
Свиридов делился своими размышлениями с женой, Валей, та злилась:
– Ты не видишь ничего положительного! Оглянись!
– Вижу, – усмехался он. – Но отрицательное перекрывает все положительное. Тошнит от этого лицемерия.
– Антисоветчик! – шипела Валя. – Ты же враг в своем доме! Ты просто не умеешь договориться, поладить. Тебе проще фыркнуть, чем признаться в собственной несостоятельности. А те, кто умеет, имеют все.
Когда в программе «Международная панорама» рассказывали про «загнивающий капитализм» Свиридов жадно вглядывался в телеэкран, где мелькали небоскребы, зеркальные дороги, неоновые рекламы и блестящие, словно игрушечные, машины.
– Да, красиво! – злилась жена. – Но мы тут при чем? Или просто завидуешь?
– Завидую. А ты нет? Неужели тебе не хочется там побывать?
– Хочется, не хочется! Какая разница, если это недоступно? Может, мне и на Марс слетать хочется, и что теперь? Не спать по ночам и завидовать космонавтам?
И они снова ругались.
– А может, все проще? – усмехалась она. – Нет денег, и вся проблема лишь в этом? Может, стоит рвануть на заработки? Куда-нибудь на прииски или на большую стройку? Говорят, там за несколько лет можно сколотить такие бабки – сразу же купить кооператив и машину. Съедем от стариков, заживем самостоятельно. Поедем путешествовать – Сочи, Крым, Грузия, Прибалтика! Красота, а? Нет, ты скажи! Да, в чем-то я с тобой согласна, живем мы скучно. Скучно и однообразно. Ничего феерического. А ты ни разу не задавался вопросом – а почему? А потому, что тебе лень, Свиридов! Мне – нет, а тебе лень. Это же ты ничего не хочешь! Ты, а не я. А жить надо, Свиридов! Просто жить и не морочить голову ни себе, ни другим. Вот я уверена – если бы ты зарабатывал, если бы получалось с выставками, ты бы забыл про свою заграницу.
– Дура! – Он моментально взрывался и принимался орать.
Жена делала большие глаза и прикрывала ладонью ему рот:
– Тише, разбудишь наших! Не дай бог, услышат.
Свиридов продолжал свистящим шепотом:
– При чем тут деньги? Ну были бы они, эти деньги, и что? Купили бы квартиру? Ага, такую же клетку. Или дурацкую, вечно ломающуюся отечественную машину. Ну, съездили бы в твой Крым! Сняли бы комнату – ни удобств, ни хрена! И что? И что дальше, Валя? Да все! Дальше ничего, ты мне поверь! Дальше – тишина! И выставки эти… Да черт с ними! Ну не хочу я писать сталеваров и комбайнеров! Не хочу, не желаю! Хоть это ты способна понять?
В этом была доля правды – стахановцев он не писал. Зато писал хорошие, крепкие портреты, неплохие пейзажи, приличные натюрморты. Но и их не брали. На то имелись причины – подмазать он не умел, подхалимничать тоже. Членом Союза художников не был, влиятельных друзей не держал. Там тоже была своя кухня – выпивоны с решателями, баньки, подарки. А эти извилистые, кривоватые пути были не для него – еще чего! И не потому, что он знал себе цену, а потому, что противно.
– Да, – жарко шептала Валентина, склонившись над ним. – А ты бы попробовал и понял, что я права.
Он слышал ее горячее дыхание, ощущал теплоту знакомого тела и вяло думал: «Наверное, самое правильное сейчас ее обнять и прижать к себе. А нет, неохота. Ну и тогда – зачем?»
И он отворачивался к стене и глухо буркал:
– Валя, отстань! Надоело.
– И мне надоело, – шипела жена. – Не можешь, как все люди! Ты даже у дочери в саду ни разу не был, ни на утреннике, ни вообще! Ты хоть знаешь, где ее сад?
Все правильно, не был. Не радовался дочкиным успехам, не ходил на утренники в детский сад, не слушал осточертевшую еще в его детстве «То березку, то рябину».
Видел ли он то положительное, о котором говорила Валентина? Да видел. Но злость и ненависть застилали глаза. Да, он видел и тех, кто умеет! Насмотрелся. Ему довелось побывать в компании золотой молодежи. Он помнил, к примеру, Колю Поташкина, красавца, студента МГИМО, внука не самого крупного функционера. Все там было, у этих Поташкиных: большущая квартира у метро «Кунцевская» в мощном кирпичном доме, с консьержкой в подъезде. В квартире румынская мебель, финский холодильник, до потолка, забитый такими продуктами, которых большинство советских граждан не видели. А еще японский магнитофон, и фээргэшный, в полкомнаты, телевизор, и ванная в розовой плитке. И домработница, и госдача в Барвихе.
Ах, как поучал его умник Коля, картинно закуривая «Мальборо» и прихлебывая настоящий солодовый шотландский виски.
– Да, старичок, – притворно вздыхал Поташкин, – согласен, у нас не самая удобная страна. Но и здесь, – легкая, пренебрежительная усмешка, – можно жить и иметь кусок хлеба с маслом и красной икрой! А если есть мозги, то и с черной. Вот ты, Женя, к примеру, зачем пошел в Строгановку и обрек себя на вечную нищету? А, призвание… Ну да, понимаю, бывает!
Все переглядывались и усмехались, посмеиваясь над случайно затесавшимся в их ряды идиотом. Кстати, в начале двухтысячных Свиридов случайно встретил Колю в Нью-Йорке. Все у него было тип-топ: и новенькая «БМВ», и дом на Лонг-Айленде, и собственный бизнес, и красавица жена, и умница дочь, студентка Колумбийского универа. Коля был в полном порядке. «Коли» всегда в полном порядке, и «Колям» все нипочем.
Но помнил Свиридов и другую историю, которая произошла чуть позже, после студенчества. Ну как история – не история, доверительный разговор с женой дипломата. Ритка эта, хорошая баба, шептала ему в ухо:
– А знаешь, почему мы рвемся туда? А, не знаешь! Я тебе объясню!
Ритка тогда хорошо набралась. Она вообще была по этому делу, но говорила, что только в отпуске алкоголем снимает накопившийся стресс. А там, за кордоном, капли в рот не берет, все сразу станет известно – и в двадцать четыре часа «здравствуй, родина!». Стучат все как миленькие!
– Так вот, – шептала Ритка, – там много такого говна, что не дай бог! Все знают, что у тебя сегодня в кастрюле! Так душно, что хочется выть! Но как только ты выходишь за ворота и попадаешь в ту жизнь, все начинает иметь смысл, понимаешь? Улицы, дома, магазины, кабаки. Люди! Все улыбаются, Свиридов! Ты только врубись – все улыбаются! И мне наплевать, искренне это или не очень, потому что там мне никто не скажет «Сука, куда ты прешь!» и никто не ткнет локтем, ты понял? Ну и потом – что-то привезешь. Какие-то шмотки сдашь в комиссионку, какие-то оставишь. И у тебя валюта, чеки в «Березку» и машина, и кооператив, где все свои, мидовские, никаких «дядей Вась». И идешь по Москве королевой, все оборачиваются. И пахнешь не «Каменным цветком», а Францией. И чувствуешь себя человеком. Женщиной чувствуешь. Вроде и рвешься домой, а через полгода хочешь назад, в нормальную жизнь. Понимаешь?
Свиридов понимал.
А однажды испытал шок. Ритка затащила его в продуктовую «Березку», перед входом предупредив:
– Свирид, только держись! В обморок не грохнись!
Дочь равнодушно пожала плечом.
С виду стаканчики с крем-брюле были точь-в-точь как прежде: та же вафелька, тот же теплый кремовый цвет.
Погода благоприятствовала, отодвинулись тучи, и выглянуло солнце, клены шелестели золотистыми листьями, кусты багровели, а трава, ровный и четкий газон, оставалась зеленой.
– Красота, а? – Сев на лавочку, он блаженно прикрыл глаза. – Все как в той жизни.
Мороженое оказалось так себе, ни в какое сравнение. И он почему-то расстроился.
– Не то, совершенно не то. Подделка.
Катя равнодушно молчала.
– Или дело не в мороженом, а в нас самих? – продолжал он. – В детстве ведь и клубника слаще, и трава зеленее? Впрочем, трава здесь вполне зеленая. Но все равно красота, правда, Кать?
– Мне легче, – усмехнулась она. – Не с чем сравнивать.
– А ведь ты права! Сравнивать всегда глупо, потому что часто сравнение не в нашу пользу. Верно, Катюш?
Катя молча пожала плечами.
* * *
Еще тогда, в самом конце восьмидесятых, Свиридов все решил.
Почему, думал он, почему им все можно, а остальным нет? Им можно вкусно жрать, сладко спать, носить красивые вещи, жить в просторных квартирах, расслабляться в закрытых санаториях, а не ютиться в приморских шанхаях? Иметь собственные закрытые пляжи? Почему им можно летать за границу, тратить валюту, лечиться в закрытых больницах и поликлиниках? Почему им и их семьям полагаются машины и личные водители? Государственные дачи с прислугой, повара и садовники? Спецстоловые, продуктовые заказы необъятных размеров и невиданного ассортимента, распределители и прочее, прочее? Чем заслужили они, эта элита, номенклатура, аппаратчики? Что они делают для страны, для народа, все эти старые, шамкающие маразматики, отчаянные фигляры и лгуны? Разве им известно, что такое очереди, в которых простой народ проводит большую часть жизни? Что они знаю об обшарпанных бо?льничных палатах с неистребимыми запахами мочи, хлорки и тухлой капусты? Разве они сталкивались с отвратительным хамством, вечным унижением на любом уровне, на любом – от поликлиники до железнодорожных касс, от кабинета начальника ЖЭКа до рабочей столовой, где нахамить может даже уборщица? А простые граждане терпят это везде и всю жизнь, от детского сада до кладбища, где из скорбящей родни нагло вытягивают последние крохи.
Всюду взятки и блат. Лучшее знакомство – директор гастронома или обувного отдела, таким знакомством гордятся, как и дружбой с официантом, швейцаром и автослесарем.
Подмазать, задобрить, подмаслить, дать в лапу, сунуть в зубы, сунуть барашка в бумажке – всем и подряд: гаишнику, врачу, медсестре, администратору гостиницы, метрдотелю, театральному кассиру и кассиру в авиакассе. По-че-му все так уродливо, мерзко устроено, почему такая унизительная, несправедливая система?
Свиридов делился своими размышлениями с женой, Валей, та злилась:
– Ты не видишь ничего положительного! Оглянись!
– Вижу, – усмехался он. – Но отрицательное перекрывает все положительное. Тошнит от этого лицемерия.
– Антисоветчик! – шипела Валя. – Ты же враг в своем доме! Ты просто не умеешь договориться, поладить. Тебе проще фыркнуть, чем признаться в собственной несостоятельности. А те, кто умеет, имеют все.
Когда в программе «Международная панорама» рассказывали про «загнивающий капитализм» Свиридов жадно вглядывался в телеэкран, где мелькали небоскребы, зеркальные дороги, неоновые рекламы и блестящие, словно игрушечные, машины.
– Да, красиво! – злилась жена. – Но мы тут при чем? Или просто завидуешь?
– Завидую. А ты нет? Неужели тебе не хочется там побывать?
– Хочется, не хочется! Какая разница, если это недоступно? Может, мне и на Марс слетать хочется, и что теперь? Не спать по ночам и завидовать космонавтам?
И они снова ругались.
– А может, все проще? – усмехалась она. – Нет денег, и вся проблема лишь в этом? Может, стоит рвануть на заработки? Куда-нибудь на прииски или на большую стройку? Говорят, там за несколько лет можно сколотить такие бабки – сразу же купить кооператив и машину. Съедем от стариков, заживем самостоятельно. Поедем путешествовать – Сочи, Крым, Грузия, Прибалтика! Красота, а? Нет, ты скажи! Да, в чем-то я с тобой согласна, живем мы скучно. Скучно и однообразно. Ничего феерического. А ты ни разу не задавался вопросом – а почему? А потому, что тебе лень, Свиридов! Мне – нет, а тебе лень. Это же ты ничего не хочешь! Ты, а не я. А жить надо, Свиридов! Просто жить и не морочить голову ни себе, ни другим. Вот я уверена – если бы ты зарабатывал, если бы получалось с выставками, ты бы забыл про свою заграницу.
– Дура! – Он моментально взрывался и принимался орать.
Жена делала большие глаза и прикрывала ладонью ему рот:
– Тише, разбудишь наших! Не дай бог, услышат.
Свиридов продолжал свистящим шепотом:
– При чем тут деньги? Ну были бы они, эти деньги, и что? Купили бы квартиру? Ага, такую же клетку. Или дурацкую, вечно ломающуюся отечественную машину. Ну, съездили бы в твой Крым! Сняли бы комнату – ни удобств, ни хрена! И что? И что дальше, Валя? Да все! Дальше ничего, ты мне поверь! Дальше – тишина! И выставки эти… Да черт с ними! Ну не хочу я писать сталеваров и комбайнеров! Не хочу, не желаю! Хоть это ты способна понять?
В этом была доля правды – стахановцев он не писал. Зато писал хорошие, крепкие портреты, неплохие пейзажи, приличные натюрморты. Но и их не брали. На то имелись причины – подмазать он не умел, подхалимничать тоже. Членом Союза художников не был, влиятельных друзей не держал. Там тоже была своя кухня – выпивоны с решателями, баньки, подарки. А эти извилистые, кривоватые пути были не для него – еще чего! И не потому, что он знал себе цену, а потому, что противно.
– Да, – жарко шептала Валентина, склонившись над ним. – А ты бы попробовал и понял, что я права.
Он слышал ее горячее дыхание, ощущал теплоту знакомого тела и вяло думал: «Наверное, самое правильное сейчас ее обнять и прижать к себе. А нет, неохота. Ну и тогда – зачем?»
И он отворачивался к стене и глухо буркал:
– Валя, отстань! Надоело.
– И мне надоело, – шипела жена. – Не можешь, как все люди! Ты даже у дочери в саду ни разу не был, ни на утреннике, ни вообще! Ты хоть знаешь, где ее сад?
Все правильно, не был. Не радовался дочкиным успехам, не ходил на утренники в детский сад, не слушал осточертевшую еще в его детстве «То березку, то рябину».
Видел ли он то положительное, о котором говорила Валентина? Да видел. Но злость и ненависть застилали глаза. Да, он видел и тех, кто умеет! Насмотрелся. Ему довелось побывать в компании золотой молодежи. Он помнил, к примеру, Колю Поташкина, красавца, студента МГИМО, внука не самого крупного функционера. Все там было, у этих Поташкиных: большущая квартира у метро «Кунцевская» в мощном кирпичном доме, с консьержкой в подъезде. В квартире румынская мебель, финский холодильник, до потолка, забитый такими продуктами, которых большинство советских граждан не видели. А еще японский магнитофон, и фээргэшный, в полкомнаты, телевизор, и ванная в розовой плитке. И домработница, и госдача в Барвихе.
Ах, как поучал его умник Коля, картинно закуривая «Мальборо» и прихлебывая настоящий солодовый шотландский виски.
– Да, старичок, – притворно вздыхал Поташкин, – согласен, у нас не самая удобная страна. Но и здесь, – легкая, пренебрежительная усмешка, – можно жить и иметь кусок хлеба с маслом и красной икрой! А если есть мозги, то и с черной. Вот ты, Женя, к примеру, зачем пошел в Строгановку и обрек себя на вечную нищету? А, призвание… Ну да, понимаю, бывает!
Все переглядывались и усмехались, посмеиваясь над случайно затесавшимся в их ряды идиотом. Кстати, в начале двухтысячных Свиридов случайно встретил Колю в Нью-Йорке. Все у него было тип-топ: и новенькая «БМВ», и дом на Лонг-Айленде, и собственный бизнес, и красавица жена, и умница дочь, студентка Колумбийского универа. Коля был в полном порядке. «Коли» всегда в полном порядке, и «Колям» все нипочем.
Но помнил Свиридов и другую историю, которая произошла чуть позже, после студенчества. Ну как история – не история, доверительный разговор с женой дипломата. Ритка эта, хорошая баба, шептала ему в ухо:
– А знаешь, почему мы рвемся туда? А, не знаешь! Я тебе объясню!
Ритка тогда хорошо набралась. Она вообще была по этому делу, но говорила, что только в отпуске алкоголем снимает накопившийся стресс. А там, за кордоном, капли в рот не берет, все сразу станет известно – и в двадцать четыре часа «здравствуй, родина!». Стучат все как миленькие!
– Так вот, – шептала Ритка, – там много такого говна, что не дай бог! Все знают, что у тебя сегодня в кастрюле! Так душно, что хочется выть! Но как только ты выходишь за ворота и попадаешь в ту жизнь, все начинает иметь смысл, понимаешь? Улицы, дома, магазины, кабаки. Люди! Все улыбаются, Свиридов! Ты только врубись – все улыбаются! И мне наплевать, искренне это или не очень, потому что там мне никто не скажет «Сука, куда ты прешь!» и никто не ткнет локтем, ты понял? Ну и потом – что-то привезешь. Какие-то шмотки сдашь в комиссионку, какие-то оставишь. И у тебя валюта, чеки в «Березку» и машина, и кооператив, где все свои, мидовские, никаких «дядей Вась». И идешь по Москве королевой, все оборачиваются. И пахнешь не «Каменным цветком», а Францией. И чувствуешь себя человеком. Женщиной чувствуешь. Вроде и рвешься домой, а через полгода хочешь назад, в нормальную жизнь. Понимаешь?
Свиридов понимал.
А однажды испытал шок. Ритка затащила его в продуктовую «Березку», перед входом предупредив:
– Свирид, только держись! В обморок не грохнись!