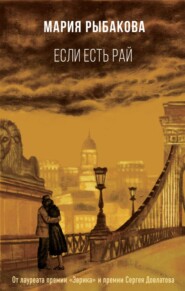По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гнедич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
он скажет ее губами: как ты мог меня отпустить?
и заплачет.
Но у Гомера достойнее: оба молчат,
нет ни сцен, ни признаний.
Моя спрятанная любовь, говорит Гнедич,
даже если все угадали,
я промолчу; может быть, она
полюбит мое молчание —
если не полюбила голос.
(Детские сказки: чудище пряталось, пряталось,
только голос давало слышать,
и когда замолкло, душенька его полюбила, —
когда замолко, не раньше,
когда погибло.
Если зерно не умрет, то останется одно,
а если умрет, его полюбят, —
вот о чем, оказывается, говорил священник.
я всегда подозревал, что во всех этих историях
есть какой-то смысл. Помню, в Полтаве,
когда батюшка Пафнутий бывал очень пьян
и во время службы плакал большими слезами,
он говорил совсем-совсем правду,
был как пророк, и мы все боялись.)
Видел ли ты когда-нибудь море,
бесконечное, похожее на вино темнотой,
простирал ли ты руки к пучине,
вызывая мать? Она поднимается дымкой
над серой водой (Батюшков и Гнедич
сравнивали воспоминания. Их было мало.
В одном они соглашались: богиня не может
долго прожить со смертным, она уходит
туда, где русалки, и тени, и матери.
После смерти женщины становятся воздухом,
говорил Батюшков,
а мужчины – землей. Гнедич с ним соглашался,
но думал: если она меня вдруг полюбит,
может, я тоже стану – воздухом?)
Когда были совсем молодыми – жалели,
что матери их не видят,
потому что и счастье, и слава, и женщины были
почти в руках,
а позже надо было радоваться,
что матерей больше нет
и они не заметят ни душевной болезни, ни как
человек становится приложением
к письменному столу
в департаменте или в библиотеке.
Оба – служащие (а думали, что поэты).
Два бобыля (а думали, что возлюбленные).
Два непритворных больных, бредущих