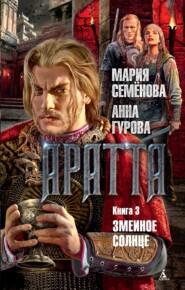По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Валькирия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Смотри…
Толкотня во дворе не заняла долгого времени. Меньше, чем теперешний мой рассказ. Вновь прокричал, позвал в темноту невидимый рог, и отроки гурьбой помчались в ворота. Я порадовалась: быстрый бег греет жарче костра, жарче мехов. Звёздное небо чуть мрело, суля нескорый восход. Я плоховато различала сперва, куда мы бежали. Боялась впотьмах оступиться, ногу поранить. Но зимняя темнота несхожа с осенней, в которой, как с выколотыми глазами, идёшь и не ведаешь, во что стукнешься лбом. Вот пошла книзу дорога, вот зачернели, отступая назад, береговые откосы, вознёсшие на гранитном хребте наш Нета-дун… и внутренним чувством я угадала под собой лёд вместо земли. Море!
Мне было теперь совсем легко и тепло, даже босым ступням, и я не завидовала Велете, нежившейся дома. Ни разу не бегавший по морозу лучше не пробуй – сразу простынешь, – но если привык к холодам, жаре и дождю – то-то радуется бегущее тело, а с ним ликует душа!
Неподалёку от берега была устроена прорубь. Отроки прыгали по одному, вылезали и опрометью мчались по кругу, вопя и подбадривая друг друга. У воды, доглядая, стоял неведомо как обогнавший нас Славомир. Вот помог выкарабкаться узкоплечему пареньку, сам растёр полотенцем, достал из-за пазухи сухую рубашку… Все прочие, я поняла, сушили порты на себе.
Мы с Яруном переглянулись. Мы водили знакомство с зимней водой. Оба вваливались в полыньи и выплясывали у костров, у одежды, распяленной на кустах… Славомир запоздало шагнул удержать меня, вытянул руку. Ха! Я поспевала пригнуться на лыжах, на склоне горы, когда острые сучья нацеливались под рёбра. Я окунулась добротно, оставив сухим лишь затылок и косищу, намотанную на кулак. По поверхности плавали осколки битого льда. Я выскочила без подмоги и торопливо отжала сорочку, скрутив её на животе. Славомир только покачал головой. Вот вылез Ярун, и мы побежали. Подошёл воевода и бросил товарищу:
– Пусть её. Рожоного ума нет, не дашь и учёного.
Мы долго носились в синеющей полутьме. Если по совести, это был не мороз, четверть мороза. Ярун повернулся ко мне, хотел говорить, но тут кто-то из отроков, плечистый наглыш, вытянул ногу, и мой побратим, непривычный к подвохам, едва не посунулся лбом в утоптанный снег. Быть бы драке, не встань подле обидчика Славомир. Он молча взял почти обсохшего парня за вышитый ворот и, как щенка, вдругорядь швырнул в дымную воду.
– Охолонь! – сказал строго, когда отрок вынырнул и, ошалело моргая, схватился за край. – Тебе с ним одним щитом голову прикрывать!
Дом встретил нас теплом очагов, свежим хлебом и запахом горячего сбитня в глиняных чашках. Что за благодать вылить в горло питьё, духовитое, сладкое, натянуть вязаные носки и сесть у огня! Потом собрали столы, но не в гриднице, а в самой дружинной избе. И опять я служила доброму Хагену и между делом разглядывала людей и палату. Не то что вчера; вчера всё во мне было слишком натянуто, ни взора, ни памяти, одна трепетная струна. Вели поподробнее описать гридницу да сидевших, и не возьмусь. Ныне освоилась, поотошла от первого страха. Да и вода омыла, очистила, заново оживила…
Так вот он, мой новый род. Будущие побратимы. Словене, корелы, весь и, конечно, варяги, которых я научилась уже выделять не по отличию черт, не по выражению – по отблеску выражения, присущему людям издалека. Не могу лучше сказать. Кто хоть раз видал гостей из-за моря, поймёт сам.
Степенные мужи не спеша ели масляную овсянку, в очередь черпали из общих мис, а потом честно клали ложки чашечками вниз, чтобы недобрый дух не лизнул. А по стенам висело оружие и щиты, одни круглые, другие вытянутые, с острым нижним концом. Страшные отметины их украшали. И на каждом – грозная птица Рарог, сокол огня. Щиты так и притягивали глаз, но кто-то другой мстил мечтать, шептал на ухо: не быть тому никогда. Видно, крепко сидел во мне ужас перед вождём, ещё дома родившийся. Как он глянул на Славомира, когда тот при отплытии смехом пообещал взять меня на корабль!.. Допустит ли из молодшей в старшую чадь? Ой вряд ли!..
Или, может, глухая тоска брала оттого, что и в этом дому не казался мне Тот, кого я узнаю с первого взгляда, Тот, кого я всегда жду? Стало быть, я ещё не изгрызла те медные короваи, не стоптала железные сапоги?..
Это жило во мне не так, как рассказываю. Не слитной мыслью – клочками, урывками дум, что летали, хлопая крыльями, как обезглавленные петухи по двору. Некогда было присесть, раскинуть умишком. Хаген выспрашивал о потехе на льду и о том, не страшилась ли я лезть в холодную прорубь. И знай приставлял к уху ладонь, просил рассказывать громче. Сперва я дивилась – чуткий слепец, он же слышал лучше меня. Потом поняла – и прихлынула поздняя благодарность. Не любопытство тешил старик и расспрашивал не для себя – для кметей, слушавших поневоле. Не все ходили к нам летом, не все меня знали. Один Славомир мог поведать кое о чём да Нежата… тут наконец я вспомнила про Нежату, не виденного ни накануне, ни днесь, и посмела спросить – жив ли молодец?
– На воропе Нежата, – ответил мне Хаген. – За Сувяр-реку побежал, скоро придёт.
Наша память разборчива и добра. Если б жёны пристально помнили муку, в какой рожали дитя, перевелось бы племя людское. Так и я. Осмеяла Нежату, выгнала со двора, а ныне сама хотела увидеть и вспоминала хорошее – ласковый взгляд красивого парня, ласковые слова. И чувствовала затылком, что вождь слыхал моё вопрошание и был опять недоволен. Верно, думал, моё воинское усердие – одна болтовня, а на уме ничего, кроме утех.
Когда же я села есть и взяла ложку, я вдруг ощутила прикосновение, совсем лёгкое, словно пуховым пёрышком по бедру. Не сразу и почувствовала сквозь одежду. Потом скосила глаза.
Подле меня стояла собака. Старая-престарая пятнистая сука с поседелой спиной и висячими тряпочными ушами. Наши лайки да волкодавы рождались пушистыми по-лесному, мороз их не морозил, дождь не мочил. У этой нежная шерсть стекала длинными прядями, лёгкими и волнистыми по концам. Карие глаза смотрели с кротким лукавством ветхого существа, которое почти отжило век, но всё ещё очень не прочь и полакомиться, и поиграть. Только не думай, я не выпрашиваю, внятно молвили эти глаза. Но если меня вдруг приласкают и угостят такой маленькой, совсем маленькой корочкой?..
Я отрезала от своего ломтя немножко вкусного мяса. Псица взяла бережно, не прикоснувшись к ладони. Я опустила руку ей на голову, погладила, почесала мягкие ушки. Мой Молчан не стерпел бы подобного ни от кого, кроме хозяйки. Гордый до лютости, он и еды никогда не брал у чужих…
Сука доверчиво положила голову мне на колено. Прикрыла глаза, нежась и отдыхая. Все мы когда-нибудь превращаемся в старых собак, которым уже неохота лаять в лесу, задорно летя по жаркому следу, неохота встречать незнакомца, явившегося у ворот… даже нюхаться с красавцем псом, приведённым в гости… Остынут, подёрнутся пеплом ярость и любопытство, широкий мир потускнеет и сузится: был бы клочок сена в углу, подальше от сквозняков, да сытое брюшко… да самое главное – любимый хозяин, который не выпнет никчёмную на дождь и мороз, не поскупится на ласку и на тепло…
Я покосилась на Хагена. Конечно, он был совсем не таков. Но здесь, в Нета-дуне, неплохо жилось и ему, и тихой Велете, и седой старой собаке. А может, ещё иным тварям, чей покой и достоинство было так же легко растоптать. Или оградить.
Смейтесь, если смешно!.. Но мне только сильней захотелось остаться. А ведь я не искала широкой спины, чтобы сидеть за ней до могилы.
5
Теперь надобно помянуть про Нежату: взялась, так всё сказывай, любо, не любо. Нежата вернулся в яркий солнечный полдень и сам был, как тот полдень, радостен и румян. Шестеро молодцов неслись вслед размеренным шагом, и по этому шагу я тотчас признала словен. Весские парни бегали ино, а уж варяги – куда ни поедут, семи вёрст не доедут, отроду не было крепких морозов у них на море Варяжском, дожди вместо снега кропили в месяце грудне.
Нежата с собой уводил пятерых, вернулся с прибытком. Этот шестой летел позади, красуясь лыжной сноровкой, а у правого уха блестела серебряная крестовина меча. Да, подумала я. Вовсе не то, что я или побратим. Этот выглядел воином.
Мстивой, к моему удивлению, Нежату не похвалил.
– Отроков я беру сам, – молвил он хмуро.
Шестой мигом опознал в нём вождя и встрял с ухмылкой, бесстрашно:
– А я не отрок.
У него был отчаянный взгляд не привыкшего ничем дорожить. Такому что свой живот, что чужой: не промедлит и не усомнится, если пошлют, как Яруна, со смертью на беззащитного. Это почуял в нём вождь, другое ли что? Откуда мне знать.
– Здесь передо мною все отроки, – ответил он невозмутимо. – Издалече идёшь, молодец?
– Из Нового Града, – сказал прибылой и перестал скалиться. – Думал хоть у тебя правды сыскать.
Из Нового Града!.. Двадцать лет прожила я в знакомом лесу, путешествие в Нета-дун казалось походом за край света, да я сказывала. Старград варяжский был мне вовсе где-то за звёздами, слишком далеко, чтобы уразуметь. Новый Град и стольная Ладога помещались чуть ближе, но тоже у кромки, под самым пологом тьмы. Возле белого камня, скрепившего древние заговоры… Мы переглянулись с Яруном. Мы были двумя синицами, выпугнутыми из куста. Варяги, залётные соколы, знали, как выглядит земля из-под облаков. Их смутить было труднее.
– Как величать-то? – спросил вождь. Он смотрел на Нежату: привёл, отвечай, – но Нежата как раз увидел меня и, если судить по лицу, почти испугался, и мне прыгнуло в душу что-то холодное, а новогородец немного повременил и откликнулся с вызовом:
– Блудом люди рекут.
Блуд – Ходящий Опричь! Хорошее назвище. Другое уже навряд ли пристанет.
– А князя что бросил, Блуд? – продолжал допрос воевода. Это он говорил о храбром Вадиме, который вышел из Ладоги и выстроил Новый Град, поссорясь с варягами, и о том слыхали даже мы в нашей чащобе.
Дерзкий Блуд показал разом сорок зубов:
– Вадиму в горохе только стоять. И людям его с ним.
Хаген, уже привыкший держать меня за плечо, покачал седой головой:
– Беда, коли язык проворней ума.
Он опять видел недоступное зрячим. Расспросить тотчас я не успела. А после – забыла.
– Князя лаешь, болячка тебе! – проворчал хромоногий Плотица. Юные воины перед ним трепетали, но тут коса напала на кремень. Блуд выхватил оружие с такой быстротой, что лезвие очертило в воздухе золотой полукруг.
– Ты меня не учи. Я тебя под стрелами не видал.
Бесстрашия, наглости и насмешки в нём было поровну. Причём на десятерых. Плотица потемнел, косолапо шагнул навстречу. Зоркий Блуд опустил меч.
– Две с одной не дерутся, слава не та.
– Достанет одной пнуть тебя за ворота, – пообещал воин. – Думай, щеня, где славы искать!
Вождь его удержал. Вожди не бывают гневливыми, скорыми на расправу. Гнев вождей превращается в чёрные тучи, разящие невидимым громом. Раньше это могло случиться с гневом каждого человека, и люди были ласковее друг к другу. Ныне благая вера ослабла, но не про вождей. Кмети не помнили, чтобы Мстивой Ломаный кричал или бранился. Он и теперь продолжал по-прежнему ровно:
– Чем же светлый князь перед тобой оплошал?
Блуд ответил немедленно:
– А хоть тем, что датчан прежде нас потчевать стал.