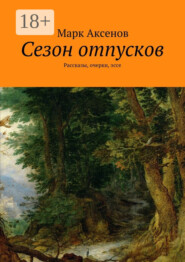По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Семейная хроника «Царя Гороха». Часть 1. Предки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весной 1924 года мой дед принимал участие в строительстве мавзолея В. И. Ленина. Не того, отделанного гранитом, который мы видим на Красной площади сейчас, а деревянного. Он был вторым по счёту. Первый, наспех сооружённый сразу после смерти Ленина, был тоже деревянным и представлял из себя куб, увенчанный небольшой ступенчатой пирамидой. Второй вариант был уже довольно похожим прототипом нынешнего, но тоже из дерева. Сейчас в Интернете можно найти фотографии, сделанные во время его строительства. Рассматривая их, я всё пытаюсь отыскать среди плотников, работающих молотками и пилами, или просто позирующих перед камерой, молодого двадцатитрехлетнего паренька, коренастого и круглолицего в рыжих веснушках. Да где там! Даже, если он и есть на этих фотографиях, их качество не позволяет в этом убедиться. Но то, что мой дед Иван там работал, это точно. Это было одно из немногих событий в его жизни, о которых он мне рассказывал неоднократно. При этом на лице его возникала свойственная ему саркастическая улыбка. Дед не был коммунистом и был далёк от всякой патетики. Насмешливость, ирония, сарказм были частью его мировосприятия. Естественно, насмешка эта проявлялась в основном дома. Даже в шестидесятые насмешка над основоположниками была чревата. Так вот сейчас по прошествии лет я думаю, а не была ли эта его улыбка реакцией на некоторую иронию судьбы, которую он чувствовал, но никогда не решился бы озвучить? Советская власть превратила его из крестьянина, в пролетария, который по Карлу Марксу должен был стать «могильщиком буржуазии», а он, (Вот поди ж ты!) оказался в каком-то смысле могильщиком её главного могильщика.
Вторая война Ивана Горохова – Великая Отечественная
Я уже говорил, что дед, как и все «Горохи» был редкостным молчуном. Из него все сведения приходилось вытягивать силой. Поэтому всё, о чём я сейчас расскажу основано преимущественно на документах деда, – солдатских книжках, справках – и на той информации, которая находятся в открытом доступе в Интернете.
До ноября сорок первого года дед служил в войсках МПВО (Местной противовоздушной обороны) Москвы, которые подчинялись Наркомату внутренних дел. Это был период интенсивных воздушных налетов фашистских бомбардировщиков на Москву. Далее деда направили служить в Отдельный пулеметный батальон, принимавший участие в обороне Москвы. Мне всё-таки удалось вытянуть из него, что он был командиром пулемётного расчёта, и я с гордостью рассказывал своим друзьям во дворе и в школе, что дед стрелял из пулемета «Максим» по фашистам. Как и все мальчишки, я спрашивал его – А сколько фашистов ты убил? Да кто его знает? – отвечал дед, -Разве там в бою посчитаешь? Служба была прервана болезнью. Дед рассказывал, что несколько раз перенес в тяжелейшей форме воспаление легких. Здоровье ему сильно подорвал польский плен. После лечения в госпитале в Архангельском зимой сорок второго дед попал в район так называемого Ржевского выступа, где воевал в составе Брянской Пролетарской стрелковой дивизии.
О боевом пути этой дивизий, первоначально сформированной из рабочего ополчения Брянска, в интересующий меня отрезок времени, я прочитал следующее:
С сентября 1942 года по март 1943 года дивизия вела оборонительные бои на правом фланге Западного фронта, на Ржевско-Сычевском направлении. Это были упорные бои местного значения, в которых воины соединения показали образцы мужества и героизма.
Только недавно наши историки осмелились объединить эти «бои местного значения» и отдельные наступательные и оборонительные операции в районе Ржева в одно понятие – «Ржевская битва». Хотя немцы в своих мемуарах давно уже называли это кровопролитное сражение, длившееся с переменным успехом полтора года, не иначе, как «Ржевская мясорубка». Ведь и по длительности, и по количеству потерь с той и с другой стороны Ржев мало в чём уступал Сталинграду. Известно, что среднее «время жизни» рядового пехотинца в период жестоких боёв в Сталинграде составляло полтора дня. По Ржеву пока что такой статистики нет. Но, когда я смотрю материалы об этом сражении, когда я читаю, что за четыре года войны личный состав нашей пехоты трижды «обновился» почти полностью, я понимаю, что деду крупно повезло, когда в феврале сорок третьего он был тяжело ранен.
Несколько месяцев дед лечился в эвакогоспитале в Свердловске. Там, кстати, была сделана единственная его фотография за всю войну. После госпиталя он какое-то время служил командиром отделения в запасной стрелковой дивизии, а в конце войны был и вовсе демобилизован, и военный фронт сменился для него фронтом трудовым. Потомственный плотник Иван Горохов был направлен на восстановление разрушенного войной Ленинграда. Об этом говорит его рабочая книжка конца войны, которая так и называется – «Книжка участника послевоенного восстановления Ленинграда».
Приезжая в Питер, я всё время останавливался в Невском районе, а в последнее время – недалеко от улицы Седова, на которой с давних пор живут родственники бабушки. Мне часто приходилось бродить по этой улице и по её окрестностям от проспекта Елизарова и до улицы Полярников. И каждый раз какое-то совершенно непонятное чувство охватывало меня при виде этих обычных домов постройки 50-х, 60- годов прошлого века, заслоненных от шумной проезжей части рядами высоких ясеней и тополей, при виде старых кирпичных стен заводских корпусов, возле одного из которых замер на вечной стоянке черный паровоз с красной звездой. Мне казалось, что причиной тому могут быть мои детские воспоминания о первой поездке в Ленинград в 1960 году. Но вот, открыв упомянутую ленинградскую рабочую книжку деда, я, кажется, понял причину своей симпатии к этому району, а, может быть, и какого-то особого «расположения» самих этих улиц и домов ко мне. В графе «место работы» был указан Ленинградский вагоноремонтный завод, который находится как раз на улице Седова, почти напротив того самого черного паровоза… Видимо, есть на земле места, которые безо всяких мемориальных досок и монументов умеют хранить в себе память о людях и событиях и открывать её тем, кто может быть к ней причастен и неравнодушен.
После войны
Дед вернулся в Москву из Ленинграда в начале сорок шестого и вскоре устроился в столярный цех завода «Манометр». И опять, как и в тридцатые годы, – работа, что называется, на износ, иногда по две-три смены. Ведь с 1948 года, когда появился на свет автор этих строк, и бабушке пришлось уволиться с работы, дед вновь стал практически единственным кормильцем в семье.
Когда я немного подрос, он пару раз водил меня на завод в свой цех. Помню, как дед вёл меня, держа за руку, по утреннему, залитому майским солнцем, переулку. Он был почти пуст – многие наши соседи вставали ещё раньше, чтобы успеть на электричку или автобус. А завод деда был рядом, в двадцати минутах ходьбы. Как сильно действует на мои воспоминания такая, казалось бы, мелочь, как погода, с её светом и тенью, с её ветром, приносящим прохладу и запахи – сначала загадочный аромат сирени, которая буйно цвела за оградой у подножия холма, на котором стояла мамина школа. Затем – не менее изумительный запах керосина, который лучше всяких табличек извещал нас о приближении керосинной лавке. Дальше мы проходили мимо магазина «Меркурий», располагавшегося в красном кирпичном здании, крыша которого на углу была увенчана куполом и маленьким шпилем. По широкой улице, которая по какому-то странному недоразумению называлась переулком, уже гремели первые утренние трамваи. Миновав швейную фабрику Клары Цеткин и желтое здание ДК Метростроя, куда мы обычно ходили смотреть кино, мы оказались в арке железнодорожного моста. А за аркой было уже рукой подать до завода. Каждый раз, когда я проезжаю на поезде над этой аркой, отправляясь куда-нибудь на юг, передо мной на секунду возникает видение того далекого утра, того непередаваемого ощущения счастья со всеми его шумами и запахами, с большими, грубыми пальцами деда в моей ладони. Запомнилась широкая заводская площадка сразу после проходной. Худощавый рабочий в серой спецовке, присел на край скамейки возле входа в цех и, щурясь на солнце, торопится выкурить последнюю папироску перед сменой. Лужи от прошедшего ночью дождя покрыты радужной плёнкой бензина. Стремительно скользят по яркому небу белые облака над заводскими корпусами. А в столярке, будто попадаешь в другой мир – вой станков, запах свежей доски жёлтые кудри стружки по всему полу и, кажется, даже по стенам. И опять – запахи… Самые незаметные, но при этом и самые прочные ниточки памяти. По сей день этот букет индустриальных ароматов свежей доски, металла, бензина, масел и лаков подсознательно воспринимается мною, как чувственный образ сотворения нового мира в его предметной ипостаси.
Как я теперь понимаю, основной продукцией столярного цеха были деревянные лакированные корпуса различных измерительных приборов, которые выпускал завод, например биметаллических термометров, которые, кстати, были в то время большой редкостью. В свободное от основной работы время, если такое оставалось, дед делал шкафы, полки и столы для дома. Практически, вся наша деревянная мебель была сделана руками деда. Отделана она была светлым лакированным шпоном. И отличить её от фабричной вряд ли кто-нибудь смог бы. Первые мои игрушки – кораблики, самолёты – были тоже из дерева. Но больше всего запомнился маленький деревянный пистолет, стволом которому служила обычная катушка из-под ниток. Пуля в виде шарика или бусинки выталкивалась из ствола палочкой, приводимой в движение самой обыкновенной резинкой.
По мере сил дед пытался и мне передавать своё мастерство. Правда, педагог он был «никакой», что часто случается с хорошими мастерами. Ведь их мастерство им подарено свыше, впитано ими, что называется, с молоком матери. И они не способны толком объяснить, как у них всё так ловко получается. Лучшими учителями становятся те, кто, не обладая природными талантами, проявляют огромную волю и целеустремленность в своём желании стать мастером, и при этом способны запомнить и передать другим все этапы и приёмы обучения. Дед был потомственным плотником и столяром, и этим всё сказано. Ему не хватало терпения наблюдать за моими неловкими попытками «отрезать» доску или «пришить» её гвоздём к брусу. Он отбирал у меня инструмент и уже сам быстро «отрезал» и «пришивал». Именно так. Он никогда не говорил «отпилить» или «прибить». И, всё-таки, эти уроки не прошли даром. Со временем я научился обращаться со столярными и слесарными инструментами, которые достались мне в наследство. Что ни говори, а «кровь людская не водица» – что-то и мне в генах передалось. До сих пор я испытываю необъяснимый трепет, глядя на рубанки, фуганки и молотки, рукоятки которых отполированы грубыми, шероховатыми ладонями деда.
Но столярное дело было далеко не единственным ремеслом, которым он владел. Вообще, я запомнил деда, как абсолютно универсального работника. Он чинил обувь, шил тапки, выполнял все ремонтные работы от мебели, паркета и до сантехники, электрики, ремонтировал телевизоры и собирал транзисторные радиоприемники. Когда его хвалили, он, «окая» по-владимирски приговаривал «А чого? Мы и часы починить могём! Только не влезешь топором!» И, самое интересное, он действительно чинил часы, правда, в основном, большие будильники. При этом он еще хорошо готовил. Конечно, не так вкусно, как бабушка. Но зато у деда был фирменный напиток – красное вино, которое он делал из сушеной вишни в огромных бутылях. Необыкновенно вкусное, в меру сладкое, цвета тёмного рубина.
Что до собственных гастрономических предпочтений деда, то бабушка, смеясь, называла его «солощим». В основных толковых словарях это слово толкуется, как «лакомый», «прожорливый», «ненасытный». Дед не был ни тем, ни другим и ни третьим. Только лишь в словаре Татьяны Ефремовой я отыскал то значение, которое вкладывала в это слово бабушка. Солощий – «неразборчивый в пище». Коронным блюдом деда, которое он ел только сам лично, было то, что Джером К. Джером в своей знаменитой книге назвал «рагу по-ирландски». Это, когда в кастрюлю с остатками щей вываливаются все остальные остатки еды – от недоеденной внуком котлеты с картошкой до винегрета и гречневой каши, а затем всё смешивается и недолго варится. Голод, перенесённый во время войны, в плену, да и в мирные времена, делает человека неприхотливым в пище.
Прогноз погоды
Но самым интересным и неожиданным для меня увлечением деда было его занятие метеопрогнозами на полгода вперёд. Да, да! Этот владимирский плотник с четырьмя классами образования бросал вызов коллективу Гидрометцентра СССР со всеми его научными сотрудниками и умудренными докторами наук. И надо сказать, весьма успешно. Правда, он предсказывал не всю погоду, а только лишь осадки – дождь или снег. Но на полгода вперёд! Каждый вечер по выходе на пенсию дед сидел на кухне, склоняясь над потрепанной амбарной книгой, и отмечал в таблице – были сегодня осадки или нет. Мне он пояснил, что в основе его прогноза лежит «Календарь Якова Брюса». Однако, наводя сегодня справки об этом петровском вельможе полководце и чернокнижнике, удивительном, разностороннем человеке, я не нашел у него того способа, которым пользовался мой дед. Яков Брюс действительно делал прогноз погоды на основании астрологии. Но не за полгода, а за несколько лет вперёд. Метод же, используемый дедом, никакого отношения к лженаукам не имел и выглядел напротив вполне себе научным, основанным на данных многолетней статистики, гласящих, что для каждой местности характерно своё, из года в год постоянное, количество осадков. Поэтому, если зимой, например, снега было мало, то лето должно быть дождливым. Весь год в дедовой книге был поделен пополам, так, что каждому дню зимы – осени соответствовал определенный день весны – лета. Дед периодически, обычно в конце года, подводил статистические итоги. И что вы думаете, – верные прогнозы составляли от шестидесяти до девяноста процентов от общего количества! Метеорологи пишут, что, если делать прогноз за неделю, то точность в восемьдесят процентов – это очень хороший результат. Дед предсказывал осадки за полгода. И как же иногда забавно было слушать, когда диктор по радио объявлял «Сейчас в Москве солнечная погода. Осадков не ожидается». Дед хитро мне подмигивал и кивал на окно, за которым моросил дождь в полном соответствии с его записью в амбарной книге, сделанной полгода назад. Недавно я откопал в недрах кладовки эту драгоценную книгу и попытался продолжить дело своего предка уже с помощью компьютера. Однако, к моему огорчению, у меня ничего не получилось. То ли дед знал ещё какие-то секреты и унёс их с собой в могилу, то ли, что более вероятно, погода на планете поменяла свой норов под влиянием неутомимой технической деятельности человечества на благо себя родимого.
Мужское воспитание
Я рано остался без отца. И главным мужчиной в нашей семье в первые годы моей жизни был, конечно, дед. Начать хотя бы с того, что с ним мы ходили в баню. Вернее, в бани. Это были Хлебниковские бани, до которых мы добирались пешком целых полчаса. Особенно длинной дорога казалась мне зимой. Мы доходили от нашего дома до Костомаровского переулка и, повернув направо, шли до моста с таким же названием, по которому переходили на противоположный берег речки Яузы. Почему-то все банные дни мне запомнились хмурыми и морозными. С реки дул ветер, мела позёмка, пустячная для взрослых, а для человека пяти лет от роду – самая что ни на есть метель. Впереди слева виднелись стены крепости, которая называлась «монастырём». А справа на фоне серого неба высились силуэты каких-то красивых башен с круглыми куполами. В этих башнях неуютно зияли высокие узкие окна без стёкол. А рядом с ними стояли здания пониже, но с такими же округлыми крышами. На мои расспросы дед ответил коротко – «Это церкви. Там раньше люди Богу молились». Слова эти мало что для меня прояснили. Но дальше дед ничего рассказывать не стал – он с юных лет был атеистом. Таким было первое моё знакомство с религией. Сегодня Сергиевская церковь и стены Андроникова монастыря образуют единый архитектурный ансамбль площади Сергия Радонежского. А в то время состояние этих памятников было плачевным. Сергиевский храм без крестов и колоколов возвышался над улицами мрачной серой громадой.
Так, изрядно промёрзнув, мы доходили до бань, располагавшихся в Хлебниковском переулке. После мытья в шумной и мутной от пара банной зале с железными шайками на серых каменных лавках мы попадали в предбанник, где были чёрные кожаные диваны с высокими деревянными спинками, и белые простыни, где гул разговоров и перебранок перекрывал сладкий тенорок из черного репродуктора – «На солнечной поляночке дугою выгнув бровь…». Одевшись, мы спускались в буфет. Там дед обязательно, даже в сильные морозы выпивал кружку холодного пива, которую закусывал солёными сушками. Я несколько раз безуспешно просил его дать мне попробовать этот, как мне казалось, сказочно вкусный напиток с такой красивой густой пеной. И однажды дед всё же уступил моим просьбам, после чего я надолго потерял интерес к пиву – вместо ожидаемой сладости я с отвращением почувствовал какой-то солоновато-горький вкус.
Что же касается моего воспитания в привычном значении этого слова, то дед им практически не занимался. За исключением, пожалуй, одного случая. Мне было лет пятнадцать, когда со мной вдруг захотел общаться Колька сын маминой подружки. Как-то, мы вместе провели лето в её родной деревне. Колька был года на два моложе меня. В первую же нашу встречу он поделился со мной своей заветной мечтой. Нет, этот мальчик вовсе не хотел стать офицером, как его отец, или космонавтом, как Юрий Гагарин. Страстным желанием Кольки было… попасть в тюрьму. Он с восторгом передавал мне услышанные им от кого-то рассказы о том, какие «прекрасные» порядки царят в этом заведении, как надо правильно «прописываться» новичку, чтобы его уважали, ну и прочие прелести, от которых у меня мурашки бегали по коже. Я был настолько впечатлён, что, придя домой, сразу же поделился с мамой, которая Кольку тоже хорошо знала и далеко не с лучшей стороны. Поэтому в следующий раз, когда Колька вновь приехал к нам – он жил в другом районе, – мама, естественно, не разрешила мне пойти с ним. Но, куда там! Я ведь уже взрослый человек! Несмотря на запрет, я оделся и уже стал открывать дверь, как вдруг появился разъяренный дед и бесцеремонно захлопнул дверь перед моим носом. Я попытался ещё раз выйти, но дед грубо меня оттолкнул и запер дверь на ключ, который тут же положил себе в карман. Что со мной было! Так опозорить меня перед мальчишкой, который моложе меня на целых два года! Я кричал, я плакал от гнева. Я думал, что никогда не прощу деду такого унижения. А сейчас я жалею лишь о том, что, став взрослым, так и не успел поблагодарить его за это. Как, впрочем, и за всё остальное, что он сделал для меня…
Последнее дело
Всё, что происходит с нами в жизни, можно грубо поделить на поступки и события. Ясно, что наши поступки или дела и их последствия зависят во многом от наших желаний. В то время, как события происходят независимо от нас. Собственно, сама наша жизнь и наше рождение являются событиями, возникающими вне нашей воли. Казалось бы, и смерть, если она наступила по естественным причинам, от нас не зависит. Это вполне очевидно с точки зрения здравого смысла, и спорить с этим могут разве только какие-нибудь чудаки, вроде художников или поэтов. В ранней юности я прочитал стихотворение Булата Окуджавы, в котором, честно признаюсь, мало что понял, но вот эти строчки запомнил:
Умереть – тоже надо уметь, как прожить
от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний…
Последняя строчка – это точно про моего деда. Он за свою жизнь сколотил такое множество табуретов и прочих предметов мебели, что они до сей поры целиком или фрагментами присутствуют у меня дома и на даче. Но самое интересное, что и первая строчка тоже о нём.
У меня перед глазами ранний летний вечер 1976 года. Ещё выходя из автобуса, я замечаю маму, стоящую в лучах послеполуденного солнца на ступеньках, ведущих к нашему подъезду. Заметив меня, мама поднимает руку с каким-то листком бумаги и машет мне. На её лице счастливая улыбка. Мне не нужно ничего объяснять – этот листочек ничто иное, как ордер на обмен.
За год до этого вечера мама получила от института, в котором трудилась, новую двухкомнатную квартиру, и переехала туда вместе со стариками, оставив за мной нашу комнату в коммуналке на Ленинском. И мы сразу стали искать возможность съехаться, то есть поменять эти две жилплощади на трехкомнатную квартиру. Полгода ушли на поиски вариантов. Я пересмотрел сотни карточек в бюро обмена, проштудировал издававшиеся тогда журналы объявлений, но походящего варианта всё никак не мог найти. В феврале скоропостижно скончалась бабушка. Едва пережив это горе, мы возобновили поиски обмена. И вот летом слёг дед. Назвать совместную жизнь наших стариков идеальной язык не повернётся. Было всё – и ругань и обиды. Но при этом – и неизменная, самоотверженная забота друг о друге. А взаимная любовь? Мы её не замечали. Ни ласковых слов, ни нежных взглядов. Вся их любовь была направлена на нас. Каждый из них любил нас по-своему, но всё же это было их совместное единое чувство, в котором они поддерживали друг друга. Когда ушла бабушка, мне даже показалось, что дед стал по отношению к нам более угрюмым и ворчливым, что его родственные чувства к нам ослабли без бабушкиной «поддержки». На самом деле он просто ушёл в своё горе. Он сильно занемог, и врачи предписали ему покой и лечение. Но, какое там! Он, как и прежде, то брался ремонтировать сифон на кухне, то мастерил какую-то полку. А иногда и вовсе пропадал на целый день и возвращался, едва дыша, с тяжелыми сумками, где лежали небольшие лопатки, грабли, какая-то рассада – чуть ли не каждый день он стал ездить к бабушке на могилу. Кончилось это тем, что в конце июля его положили в Боткинскую.
Между тем поиски варианта обмена продолжались. И однажды я увидел на фонарном столбе у троллейбусной остановки объявление с вариантом обмена, который показался мне вполне приемлемым. Да и дом, адрес которого был указан, оказался прямо напротив. Я тут же позвонил по телефону-автомату на указанный номер и предложил свой вариант, который был сразу же принят. Там молодая семья, наоборот, хотела жить отдельно от родителей. После взаимных осмотров, укрепивших обоюдное желание поменяться, завертелась процедура оформления. Надо вам сказать, что в те времена все сделки с недвижимостью строго контролировались властями. Советское государство неусыпно следило за тем, чтобы, не дай Бог, какой-нибудь рабочий или инженер не покусился на жилплощадь больше положенной ему нормы. Поэтому в трёхкомнатную квартиру имела право въехать только семья, состоящая из трех человек. И пока что наша семья – я, мама и дед, – соответствовала этим требованиям. Пока…
И вот, наконец, долгожданный ордер на обмен получен. Я подхожу к маме, обнимаю её и, не веря своим глазам, читаю документ, разрешающий нашей семье поселиться в трёхкомнатной квартире, в той самой трёшке на шестом этаже, которую мы уже заранее полюбили. По этому случаю мама даже устроила небольшой праздничный ужин, и мы с ней вдвоём – я с бокалом вина, она со стаканом сока – помянули бабушку и выпили за здоровье деда.
На следующий день мне на работу позвонили из Боткинской.
– Приезжайте! Ваш дедушка в очень тяжелом состоянии.
Сообщив об этом маме, я попросил её не ездить самой, а позвонить дяде Коле, и отправился в больницу. Дед был уже в беспамятном состоянии. Вскоре приехал дядька. Дед уже никого не узнавал, он судорожно хватал нас за руки и хрипло бормотал, будто стараясь сообщить что-то важное. Я даже предположил, что речь шла о каких-то деньгах, но разобрать что-то было невозможно. Подушка была слишком низкой для больных-сердечников. Я подсел на кровать и приподнял деда чуть повыше, подперев его со спины. Через несколько минут я услышал последние удары его сердца…
Умереть – тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто…
Глава вторая. Дедова родня
Ни одного из братьев деда я не помню. Хотя с кем-то из них я наверняка встречался. Ведь все они жили неподалеку от нас. Однако, встречи эти происходили в том возрасте, когда память моя еще не научилась надолго сохранять события и лица. Но вот с сёстрами деда, и в особенности с их потомками, я знаком несколько больше.
Александра-монашка
Старшую сестру Александру я видел всего лишь раз. Мне было лет десять, когда дед попросил своего знакомого отвезти нас на машине в город Покров, что на юге Владимирской области. Это была первая в моей жизни длительная поездка на автомобиле. Кажется, это была популярная тогда «Победа». Скорость, с которой мы мчались по шоссе, приводила меня в трепет. Стрелка на спидометре временами подбиралась аж к 80 километрам в час! И это первая причина того, что поездка запомнилась. Вторым памятным событием было посещение церковной службы. Оно было недолгим и вынужденным. Александра, смогла выйти к нам только после окончания литургии, которую она сама и проводила. В то время в Покрове не было священника. Но даже эти короткие мгновения, наполненные звуками молитвы, пения хора, запахами стеарина и ладана, отблесками нимбов святых и окладов икон, наполнили мою душу ощущением прикосновения к некоей неведомой доселе тайне, которая меня одновременно и манила и пугала.
Мы встретились после службы в каком-то помещении при храме, может быть в трапезной. Александру у нас в семье всегда звали монашкой, хотя в то время она ещё жила не в монастыре. Помню её грузную фигуру, одетую в чёрное на фоне зелёной стены. В тусклом свете лампы она сидела, положив руку на небольшой столик слева, и улыбалась мне.
– А ты крещёный? – спросила она.
Я даже не понял, о чём это она, и посмотрел на деда. Тот отрицательно покрутил головой.
– Как же так? Грех какой? Надо мальчика покрестить обязательно!
Дед быстро перевёл разговор на другую тему, которая, видимо, и была причиной нашей поездки. При прощании Александра осенила меня крестом и вновь повторила:
– Обязательно надо мальчика покрестить!
На обратном пути я всё спрашивал его, что значит «покрестить». И дед, как мог, описал мне этот обряд, разумеется, не объяснив его смысла, коего сам не особо понимал и не признавал.