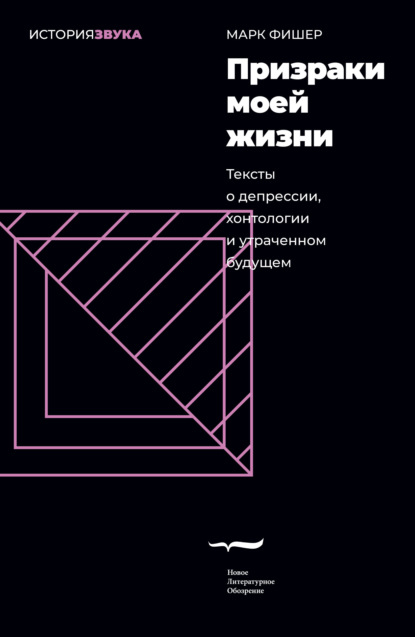По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем
Автор
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Следует ли в таком случае понимать хонтологию как попытку оживить сверхъестественное, или же это просто образное выражение? Ответить на этот затруднительный вопрос можно, осмыслив хонтологию как сферу реального, где призрак – это не что-то сверхъестественное, а нечто, что действует, не существуя физически. Великие мыслители модерности Фрейд и Маркс выявили разные модусы этой призрачной каузальности. Совершенно очевидно, что в мире позднего капитализма, управляемом финансовыми абстракциями, виртуальности имеют реальную силу, и самый зловещий «призрак Маркса» из всех – это, возможно, и есть капитал. Но, как подчеркивает сам Деррида в своих интервью для фильма «Призрачный танец», психоанализ тоже «наука призраков»: изучение того, как события, получившие отзвук в нашей душе, становятся призраками.
Возвращаясь к проведенному Хэгглундом различию между уже и еще не существующим, мы можем предварительно наметить два основных направления хонтологии. Первое относится к тому, чего (фактически) уже нет, но что продолжает иметь силу в качестве виртуальности (травматичная компульсия, фатальная тяга к повторению). Во втором хонтология имеет дело с тем, что (фактически) еще не случилось, но что уже имеет силу в виртуальном (сила притяжения, ожидание, формирующее текущее поведение). «Призрак коммунизма», о котором Маркс и Энгельс предупреждали в первых строках своего «Манифеста Коммунистической партии», относился как раз ко второму типу: виртуальность, угроза появления которой уже тогда играла роль в подрыве текущего порядка вещей.
Будучи частью философского проекта деконструкции, осуществляемого Деррида, книга «Призраки Маркса» одновременно была реакцией на актуальный в тот момент исторический контекст, сложившийся на фоне распада Советской империи. Или, скорее, она была реакцией на якобы исчезновение истории, провозглашенное Фрэнсисом Фукуямой в книге «Конец истории и последний человек». Что должно было произойти теперь, когда реально существовавший социализм пал, а капитализм мог доминировать повсеместно и его притязаниям на единоличное господство препятствовало существование уже не целого блока, а маленьких островков сопротивления на Кубе и в Северной Корее? Эру, которую я назвал «капиталистический реализм» – массовую уверенность в том, что нет никакой альтернативы капитализму, – терзало не появление призрака коммунизма, а его исчезновение. Как писал Деррида:
Сегодня в мире господствует или становится господствующим определенный способ высказываться… Этот господствующий дискурс зачастую принимает ту маниакальную форму ликования и заклинания, которую Фрейд приписывал так называемой триумфальной фазе работы скорби. Заклинание повторяется и превращается в ритуал; оно придерживается формул и зависит от них – как и во всякой анимистической магии. В ритме размеренного шага оно скандирует: Маркс мертв, коммунизм мертв, действительно мертв, со всеми его надеждами, речами, со всеми его теориями, и практиками, да здравствует капитализм, да здравствует свободный рынок, виват экономическому и политическому либерализму![12 - Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал. С. 79–80.]
«Призраки Маркса» – это, помимо всего прочего, сборник рассуждений о медиа (и постмедиа) технологиях, установленных капиталом на всей подвластной ему территории. В этом смысле хонтология не была чем-то изолированным – она была неотъемлемой частью эпохи «технотеледискурсивности, технотелеиконичности», «симулякров» и «синтетических изображений». Наличие приставки «теле-» подчеркивает, что хонтология имеет дело с кризисом не только времени, но и пространства. Как теоретики Поль Вирильо и Жан Бодрийяр продемонстрировали достаточно давно – а «Призраки Маркса» можно рассматривать в том числе как ответ Деррида этим философам, – «телетехнологии» вызывают коллапс и пространства, и времени. События, удаленные в пространстве, мгновенно становятся доступны аудитории. Ни Бодрийяр, ни Деррида не дожили до максимальной – но, без сомнений, максимальной лишь на данный момент – манифестации «телетехнологий», наиболее радикально сократившей расстояние и время: киберпространства. Здесь мы приблизились к первой причине, почему концепцию хонтологии надо было применить к популярной культуре первого десятилетия XXI века. Именно в этот период киберпространство получило невиданную ранее власть над восприятием, дистрибуцией и потреблением культуры – особенно музыкальной культуры.
Когда речь шла о музыкальной культуре – в моих собственных статьях и в статьях таких критиков, как Саймон Рейнольдс и Джозеф Стэннард, – хонтология упоминалась прежде всего применительно к определенному скоплению музыкантов. Слово «скопление» здесь ключевое. Эти музыканты – Уильям Басински, лейбл «Ghost Box», The Caretaker, Burial, лейбл «Mordant Music», Филип Джек и другие – пересеклись в общем пространстве, при этом никак не воздействуя друг на друга. Их объединял не звук, а скорее ощущение, экзистенциальная направленность. Работы музыкантов, которые стали ассоциироваться с хонтологией, были переполнены меланхолией; их также занимали способы материализации памяти через технологии – отсюда увлеченность телевидением, винилом, аудиокассетами и звуками, сопровождающими поломку этих носителей. Эта одержимость овеществлением памяти вылилась в то, что стало, пожалуй, классическим хонтологическим аудиоэффектом: использование звука потрескивания виниловой пластинки. Потрескивание – способ показать нам, что связь времен распалась; оно препятствует нашему погружению в иллюзию присутствия. Потрескивание полностью меняет стандартный процесс прослушивания музыки, при котором, как пишет Иэн Пенман, от нас скрыт тот факт, что звук был записан с помощью технических средств. Здесь факт записи не просто нарочито подчеркнут, нас вдобавок заставляют обратить внимание на носитель, с помощью которого мы получаем к этой записи доступ. Львиная доля музыкальной хонтологии базируется на различии аналоговых и цифровых носителей: множество хонтологических аудиозаписей стремятся воссоздать материальность аналоговых медиа в эпоху цифрового эфира. MP3-файлы, разумеется, тоже материальны, но их материальность от нас скрыта – в отличие от осязаемой телесности виниловых пластинок или даже компакт-дисков.
Без сомнения, тоска по этой оставшейся в прошлом материальности подпитывает меланхолию, которой пронизана хонтологическая музыка. Что касается более глубинных причин этой меланхолии, здесь достаточно будет вспомнить название альбома Лейланда Кирби «Sadly, The Future Is No Longer What It Was» («Увы, будущее теперь не то, что раньше»). В хонтологической музыке красной нитью сквозит не высказанная прямо мысль, что надежды, которые вселяла послевоенная электронная музыка или эйфорическая танцевальная музыка 1990?х, испарились: будущее не просто не наступило – теперь оно уже не кажется возможным. Но в то же время эта музыка знаменует отказ ставить крест на мечте о будущем. Этот отказ придает меланхолии политическую окраску, так как он означает нежелание примириться с закрытыми горизонтами капиталистического реализма.
Не отпуская призрак
По Фрейду, и скорбь, и меланхолия связаны с утратой. Но если скорбь – это медленное болезненное удаление либидо от утраченного объекта, то в случае с меланхолией либидо остается привязано к тому, что было утрачено. Чтобы вызвать скорбь, как отмечает Деррида в «Призраках Маркса», умершее нужно изгнать: «Заклинание должно убедиться, что мертвец не вернется: следует скорее поместить труп в надежное место, чтобы он разлагался там, где был погребен, или даже забальзамировать его, как это любили делать в Москве»[13 - Деррида Ж. Призраки Маркса. С. 145.]. Некоторые, однако, отказываются упокоить мертвое тело, а другие, напротив, так (пере)усердствуют в стремлении умертвить что-либо, что создают призрак, бесплотную сущность. «Капиталистические общества, – пишет Деррида, – всегда могут облегченно вздохнуть и сказать себе: с коммунизмом покончено, и не просто покончено, а он еще и не имел места, это был всего-навсего призрак. Они могут лишь отрицать самое неоспоримое: призрак никогда не умирает, он всегда остается, чтобы приходить и возвращаться»[14 - Там же. С. 147.].
Появления призрака, таким образом, можно истолковать как неудавшуюся скорбь. Они вызваны нашим нежеланием отпустить данный призрак или же нежеланием данного призрака отпустить нас – иногда эти два обстоятельства по сути значат одно и то же. Призрак не позволяет нам (у)дов(летвориться)ольствоваться посредственными благами, кои по крупицам разбросаны в мире капиталистического реализма.
В хонтологии XXI века на кону не исчезновение какого-то отдельного объекта. Исчезла целая тенденция, виртуальная траектория. Тенденцию эту можно обозначить как «популярный модернизм». Культурная экосистема, о которой я писал выше, – музыкальная пресса и наиболее интересные пласты общественного телерадиовещания – была частью популярного модернизма в Великобритании, наряду с постпанком, брутализмом в архитектуре, книгами издательства Penguin в мягкой обложке и BBC Radiophonic Workshop[15 - ВВС Radiophonic Workshop – студия звукозаписи, архив и редакция, участники которой занимались звуковым оформлением программ для радио и телевидения (среди наиболее известных работ – заглавная тема из научно-фантастического сериала «Доктор Кто»). Подразделение, основанное в 1958 году, стало известно благодаря новаторским способам работы со звуком. Участники коллектива – в особенности Дафна Орам и Делия Дербишир – оказали огромное влияние на саунд-дизайн и дальнейшую историю электронной музыки. – Примеч. ред.] (Радиофонной мастерской BBC). Популярный модернизм задним числом реабилитировал элитистский проект модернизма. В то же время он однозначно утверждал, что популярной культуре не обязательно быть популистской. Некоторые модернистские приемы не только распространялись, но и коллективно перерабатывались и расширялись, а задача модернизма по созданию форм, адекватных текущему моменту, снова стала актуальной. Я хочу сказать, что, хотя в то время я этого не осознавал, но большинство моих ранних культурных ожиданий сформировал именно популярный модернизм, и тексты, собранные в «Призраках моей жизни», посвящены моим попыткам примириться с исчезновением условий, способствовавших его существованию.
Здесь имеет смысл сделать остановку, чтобы разграничить хонтологическую меланхолию, которую собственно я имею в виду, и два других типа меланхолии. Первый тип Венди Браун называет «левой меланхолией». На первый взгляд то, о чем я говорил, может показаться меланхоличной обреченностью левого толка: пусть они были не идеальны, но социал-демократические институты были лучше всего того, на что мы можем надеяться сейчас, а возможно, и когда-либо… В своем эссе «Сопротивляясь левой меланхолии» Браун нападет на «левых, которые не предлагают ни глубинной и радикальной критики статус-кво, ни привлекательной альтернативы текущему положению вещей. Но еще более настораживает левая идеология, которая больше верит в невозможность собственной реализации, нежели в свой потенциальный успех, левая идеология, которой комфортнее фокусироваться не на оптимизме, а на собственной маргинальности и провале, левая идеология, которая, таким образом, поймана в сети меланхолической привязанности к собственному утерянному прошлому, чей дух призрачен и чья структура желаний обращена вспять и изнурительна»[16 - Brown W. Resisting Left Melancholy // Boundary 2. 1999. № 26. P. 19–27.]. Особенно губительным данный тип меланхолии делает его тенденция всё отрицать. Описанный Браун меланхолик левого толка – это пессимист, который считает себя реалистом; он больше не верит, что его стремление к радикальным переменам осуществимо, но и не признает, что он опустил руки. Осмысляя эссе Браун в своей книге «Коммунистический горизонт», Джоди Дин ссылается на лакановскую формулу: «единственное, в чем можно быть виновным, – это уступить в своем желании»[17 - Jodi D. The Communist Horizon. London; New York: Verso, 2012. P. 172.]. Описанный Браун сдвиг в левой идеологии – от уверенности, что будущее принадлежит ей, к любованию собственной неспособностью действовать – превосходно иллюстрирует этот переход от желания (которое, по Лакану, есть желание желать) к влечению (наслаждению недостижением результата). Я же, напротив, говорю о меланхолии, суть которой состоит не в отказе от желания, а в нежелании сдаваться. Иными словами, она состоит в отказе приспосабливаться к текущим условиям так называемой «реальности» – даже если этот отказ заставит тебя ощущать себя изгоем своего времени…
Второй тип меланхолии, который нужно отличать от хонтологической меланхолии, Пол Гилрой называет «постколониальной меланхолией». Гилрой связывает такую меланхолию с избеганием; это уклонение от «тяжкого обязательства разбираться с неприглядной историей империализма и колониализма и превращать парализующее чувство вины в более продуктивный стыд, что способствовало бы образованию многокультурной нации, где больше не было бы страха перед чужаками или инаковостью»[18 - Gilroy P. Postcolonial Melancholia. New York: Columbia University Press, 2005. P. 99.]. Она происходит из «утраты фантазии о всемогуществе». Подобно левой меланхолии Браун, постколониальная меланхолия также связана с отрицанием: ее «характерное сочетание», как пишет Гилрой, – это смесь «маниакального восторга со страданием, ненавистью к себе и амбивалентностью»[19 - Ibid. P. 104.]. Постколониальный меланхолик не (просто) отказывается принять перемены – в некотором смысле он отказывается даже признать, что перемены вообще произошли. Он безотчетно держится за фантазию о всемогуществе, воспринимая перемены исключительно как деградацию и крах, вина за которые, естественно, лежит на иммигрантах (непоследовательность здесь очевидна: если бы постколониальный меланхолик действительно был всемогущ, каким образом ему могли бы навредить иммигранты?). На первый взгляд хонтологическую меланхолию можно было бы рассматривать как вариант постколониальной меланхолии: мол, в очередной раз белый мальчик сетует на потерю привилегий… Но в таком случае потерянное трактовалось бы только в рамках разобиженного ресентимента[20 - В оригинале – непереводимая игра слов «resentment ressentiment». – Примеч. пер.] (фр. ressentiment) или же через призму того, что Алекс Уильямс назвал негативной солидарностью, – когда нас приглашают торжествовать не по поводу ширящегося освобождения, а в связи с унижением еще одной группы людей; особенно печально, что эта группа людей – главным образом рабочий класс.
Ностальгия в сравнении с чем?
Здесь снова встает вопрос о ностальгии: может, хонтология, как утверждают многие ее критики, – это просто другое название ностальгии? Может, ее суть – в тоске по социальной демократии и ее институтам? Учитывая повсеместную ностальгию по формам, о которой я писал выше, необходимо задать вопрос: ностальгия (возникшая) в сравнении с чем? Кажется странной необходимость доказывать, что невыигрышное для настоящего сравнение с прошлым не обязательно всегда вызвано ностальгией, но такова уж сила деисторизации посредством популизма и пиара, что такие вещи необходимо четко проговаривать. Пиар и популизм насаждают релятивистскую иллюзию, будто активность и инновации равномерно распределяются по всем культурным периодам. Тенденция незаслуженно переоценивать прошлое доводит ностальгию до крайности; но в своей книге «Когда свет погас: Британия в семидесятые»[21 - Beckett A. When the Lights Went Out: Britain in the Seventies. London: Faber & Faber, 2010.] Энди Беккет, среди прочего, делает вывод, что мы во многом недооцениваем период 70?х годов – по факту Беккет показывает, что капиталистический реализм был построен на демонизации этой эпохи. В то же время вездесущие медиа побуждают нас ошибочно переоценивать настоящее, и те, кто не помнит прошлого, обречены потреблять его в новых обертках вновь и вновь.
И если 1970?е во многом были лучше, чем внушает нам неолиберализм, мы также должны признать, что капиталистическая антиутопия культуры XXI века не была просто навязана нам – она в значительной мере выстроена исходя из наших желаний. «Практически все, чего я боялся за последние 30 лет, случилось, – заметил Джереми Гилберт. – Все, о чем предостерегали мои наставники в политике с тех самых пор, как я ребенком в начале 80?х жил в бедном муниципальном доме на севере Англии или когда я в старшей школе читал в левой прессе разоблачения тэтчеризма, – все оказалось ровно настолько плохо, как они и предрекали. Но я все равно не хотел бы жить 40 лет назад. К чему я веду: это мир, которого мы все боялись; но в какой-то мере это и мир, который мы хотели»[22 - Gilbert J. Moving on from the Market Society: Culture (and Cultural Studies) in a Post-Democratic Age. URL: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/moving-on-from-market-society-culture-and-cultural-studies-in-post-democra/.]. Но мы не обязаны выбирать между, скажем, интернетом и социальным обеспечением. В хонтологии утраченные варианты будущего не принуждают делать подобный ложный выбор; вместо этого мы видим призрак мира, где все блага коммуникационных технологий могли бы соседствовать с чувством сплоченности и братства более сильным, чем смогла обеспечить даже социал-демократия.
Проект популярного модернизма никак нельзя назвать завершенным, достигшим абсолютного апогея и не требующим улучшений. Бесспорно, в 1970?х сфера культуры была открыта для изобретательности рабочего класса настолько, что сегодня нам трудно это даже представить; но в тот же самый период расизм, сексизм и гомофобия были неотъемлемой составляющей мейнстрима. Само собой, борьба с расизмом и (гетеро)сексизмом все еще не окончена, но с тех пор она добилась значительных успехов, став мейнстримом, – однако в то же самое время неолиберализм разрушил социал-демократическую инфраструктуру, которая давала рабочему классу больше возможностей участвовать в культурном производстве. Кстати сказать, отделение класса от расы, гендера и сексуальности сыграло ключевую роль в успехе неолиберализма – из?за чего возникло нелепое убеждение, будто неолиберализм был в каком-то смысле предпосылкой к прогрессу в борьбе с расизмом, сексизмом и гетеросексизмом.
Хонтология – это не тоска по какому-то определенному периоду, это желание возобновить процессы демократизации и плюрализма, к которым призывает Гилрой. Возможно, здесь будет нелишним вспомнить, что социал-демократия обрела целостность и завершенность только по прошествии времени; для современников левого толка она была компромиссом, временным плацдармом, откуда позднее можно было бы продолжать наступление. Преследовать нас должен не призрак переставшей существовать социал-демократии, а так и не начавшие существовать варианты будущего, которые популярный модернизм заставил нас ожидать, но так и не материализовавшиеся. Эти призраки утраченного будущего осуждают ностальгию по формам, господствующую в капиталистическом реализме.
Музыкальная культура играла важнейшую роль в создании образов будущего, которое было утрачено. Слово «культура» здесь ключевое, потому что связанные с музыкой аспекты культуры (мода, дискурс, оформление обложек) были так же значимы в сотворении манящих неизвестных миров, как непосредственно сама музыка. Произошло разотчуждение музыкальной культуры в XXI веке: отвратительное возвращение в популярную музыку бизнес-воротил и артистов типажа «парень с нашего двора»; упор на реалити-шоу в индустрии развлечений; повальная мода среди представителей музыкальной культуры одеваться и выглядеть так, будто их отфотошопили или подвергли пластике; акцент на излишнюю, наигранную эмоциональность в пении. Все это немало способствовало дрессировке общества: посредственность культуры потребительского капитализма теперь воспринимается как норма. Майкл Хардт и Антонио Негри правы, говоря, что революционность борьбы за уравнивание всех рас, гендеров и сексуальных ориентаций состоит не только и не столько в требовании признать разного рода идентичности. В перспективе речь идет о ликвидации идентичности. «Нужно помнить, что революционный процесс упразднения идентичности страшен, жесток и травматичен. Не пытайтесь спасти свое „я“ – напротив, оно будет принесено в жертву! Это не значит, что освобождение низвергнет нас в пучину безразличия без каких-либо опознавательных признаков, просто ныне существующий набор идентичностей перестанет служить якорем»[23 - Hardt M., Negri A. Commonwealth. Cambrige; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. P. 339.]. Хардт и Негри справедливо предостерегают о травмирующих аспектах такой трансформации, которые они осознают, но в ней также есть и положительные стороны. На протяжении XX века музыкальная культура служила своеобразным зондом, подготовлявшим почву общественных настроений для нового будущего, где больше не царили бы белые гетеросексуальные мужчины, – блаженно свободного будущего, отказавшегося от идентичностей, которые сами по себе есть всего лишь фикции. В XXI же веке, напротив, – и сплав попсы с телевизионными реалити-шоу тому ярчайшее доказательство, – популярная музыкальная культура сводится к тому, чтобы, подобно зеркалу, отражать субъективность позднего капитализма.
Теперь уже должно быть ясно, что в «Призраках моей жизни» слово «хонтология» употребляется в нескольких разных смыслах. В более узком смысле этот термин используется применительно к музыкальной культуре, а в более широком значении он указывает на навязчивость, повторение, воображаемые образы. Существуют также и более-менее безобидные варианты хонтологии. В «Призраках моей жизни» будут попеременно использоваться все эти различные значения термина.
Эта книга о призраках моей жизни, поэтому в ней неизбежно будет присутствовать личный мотив. Но моя интерпретация известной фразы «личное – это политическое» связана с поиском (культурных, структурных, политических) предпосылок субъективности. Наиболее продуктивно фразу «личное – это политическое» можно трактовать как «личное – это безличное». Любому из нас тоскливо быть самим собой (тем паче быть вынужденным подавать себя в таком качестве). Культура и анализ культуры ценны лишь постольку, поскольку они позволяют нам сбежать от самих себя.
Эти выводы дались мне нелегко. Депрессия – самый скверный из призраков, что преследуют меня в жизни; слово «депрессия» я использую, чтобы разграничить это состояние беспросветного солипсизма от более лирического (и коллективного) уныния хонтологической меланхолии. Я начал вести блог в 2003?м, когда находился в такой глубокой депрессии, что день за днем жизнь казалась невыносимой. Часть собранных здесь текстов писались, когда я пытался справиться с этим состоянием, и не случайно мое (пока успешное) избавление от депрессии совпало с экстернализацией негативности: проблема была не (только) во мне, а в культуре вокруг меня. Сейчас мне ясно, что период примерно с 2003 года и по настоящий момент будет считаться – и не в отдаленном будущем, а очень скоро – худшим периодом для (популярной) культуры с 1950?х годов. Скудность культуры, однако, не означает, что в ней не было следов иных, нереализованных возможностей. «Призраки моей жизни» – это попытка установить связь с некоторыми из этих следов.
ПРИЗРАКИ МОЕЙ ЖИЗНИ: ГОЛДИ, JAPAN, ТРИКИ
На дворе был, наверное, 1994?й, когда я впервые увидел пластинку Rufige Kru «Ghosts of My Life» («Призраки моей жизни») на полке музыкального магазина. Этот мини-альбом из четырех треков вышел в 1993?м, но в те годы – еще до хайпа в интернете и онлайн-дискографий – андеграунду требовалось больше времени, чтобы всплыть на поверхность. Эта пластинка была ярким представителем жанра дарксайд-джангл. Джангл был одним из составных отрезков «хардкорного континуума», названного так позднее Саймоном Рейнольдсом: череды мутаций в британском танцевальном андеграунде, вызванной привнесением брейкбита в рейв и далее перетекшей от хардкор-рейва к джанглу, спид-гэриджу, тустепу.
Я всегда буду предпочитать термин «джангл» более блеклому и неточному «драм-н-бэйс», потому что в значительной мере очарование жанра зиждилось как раз на неиспользовании в нем барабанов и бас-гитары. Вместо симуляции реально существовавших звуков «настоящих» инструментов цифровые технологии были призваны создавать звуки, которых до этого не существовало. Функция тайм-стретчинга – позволявшая растянуть продолжительность звука без изменения его тона – преобразовала брейкбит-сэмплы в ритмы, которые живой человек был не в силах воспроизвести. Продюсеры также использовали странный металлический скрежет, которым программа забивала зазоры, появлявшиеся при чрезмерном замедлении и растяжении сэмплов. В результате получался абстрактный коктейль, который давал в голову не хуже любых синтетических препаратов: ускорял метаболизм, повышал ожидания и перестраивал нашу нервную систему.
Термин «джангл» предпочтителен еще и потому, что он вызывает ассоциации с определенным пейзажем: городскими джунглями или, скорее, изнанкой мегаполиса, находящегося в процессе оцифровки. «Urban music»[24 - «Urban music» – зонтичный термин, служащий для обозначения «черных» жанров популярной музыки – соула, ар-н-би, хип-хопа, грайма и др. Своим происхождением обязан тому факту, что мигрантские афродиаспоральные сообщества в США и Британии в подавляющем большинстве являются жителями крупных мегаполисов, представителями городской культуры. Обычно противопоставляется термину country music – кодифицированному определенным образом компендиуму музыкальных практик, основанных на фольклорных традициях районов Аппалачей, Техаса и штата Миссисипи, вокруг которого утвердилась репутация музыки для белого населения юга страны. В понимании последнего определения видится горькая ирония, поскольку огромная часть системообразующих традиций кантри представляет собой наследие музыки вывезенных из Африки рабов и переосмысления фольклорной песни нищими чернокожими странствовавшими певцами начала XX века. – Примеч. ред.] иногда понимается как более вежливый синоним «черной» музыки. Но такое название не обязательно связано с отказом от расовых стереотипов – скорее оно взывает к культуре обыденного космополитизма[25 - В оригинале Фишер использует термин «conviviality» британского постколониального исследователя Пола Гилроя. Под ним Гилрой подразумевает горизонтальную и низовую культуру сожительства различных наций и рас. С одной стороны, Гилрой противопоставляет подобный феномен терпимости к многообразию на повседневном уровне имперской меланхолии, а с другой – привилегированному космополитизму «сверху». Подробнее см.: Gilroy P. After Empire: Melancholia or Convivial Culture? London: Routledge, 2004. – Примеч. ред.]. Тем не менее джангл никак нельзя назвать однозначным воспеванием городской среды. Если джангл что и воспевал, так это притягательность тьмы. В антиутопическом импульсе джангл освобождал подавляемое либидо, выпуская наружу и усиливая наслаждение от предвкушения того, что все существующие определенности будут уничтожены. Как утверждал Кодво Эшун, джангл – это либидизация тревожности, трансформация реакции «бей или беги» в удовольствие.
Ситуация была весьма неоднозначной: в каком-то смысле такая музыка являлась художественно усиленной звуковой экстраполяцией неолиберального стремления к разрушению атмосферы солидарности и защищенности. Джангл отвергал ностальгию по привычной жизни в маленьком городе, но и в цифровых мегаполисах среди незнакомцев расслабиться было невозможно: там никому нельзя было доверять. Много мотивов джангл заимствовал из фильмов 1980?х годов, затрагивавших «Гоббсову проблему» – таких, как «Бегущий по лезвию», «Терминатор» и «Хищник-2». Не случайно все три этих фильма – про охоту. В мире джангла существа – человеческие и нечеловеческие – преследовали друг друга как ради забавы, так и для пропитания. Но дарксайд-джангл в равной степени отражал и радость несхваченной жертвы, эйфорический ужас побега от безжалостного хищника, как в видеоигре, и восторг охотника, загнавшего добычу.
С другой стороны, дарксайд-джангл рисовал образ будущего, которое капитализм может только отвергнуть. Капитализм никогда открыто не признает, что является системой, основанной на бесчеловечной жадности; Терминатор не может отбросить личину человека. Джангл не только срывал эту маску, он активно ассоциировал себя с неорганической начинкой под ней: отсюда и голова андроида / череп на логотипе Rufige Kru. Такая парадоксальная самоидентификация со смертью и уравнивание смерти с нечеловеческим будущим были больше, чем дешевой нигилистической позой. В какой-то момент скопившийся и не нашедший выхода негативный антиутопический посыл достигает предела и начинает преобразовываться в извращенное подобие утопии, где уничтожение становится необходимой предпосылкой для радикального обновления.
В 1994 году я учился в магистратуре, и у меня не было ни наглости, ни денег, чтобы слоняться по музыкальным магазинам, скупая все новинки. Поэтому я слушал джангл так же хаотично, как в свое время в 70?х читал американские комиксы. Я доставал треки когда и где придется, обычно в виде сборников на CD, выходивших уже после того, как премьерные дабплейт-тиражи альбомов теряли свою свежесть. По большей части неумолимый поток джангл-музыки невозможно было вписать в какой-либо нарратив. В соответствии с безличным и обесчеловеченным звучанием этого жанра, названия исполнителей тяготели к загадочным киберпанк-референсам без привязки к каким-либо реальным событиям или местам. Джангл лучше всего воспринимался как анонимный поток электронного либидо, будто проходивший через продюсеров, или как нагромождение искажений и спецэффектов без конкретного авторства. Он звучал как нечто живое, но неодушевленное – словно жестокий и беспощадный искусственный интеллект, грешным делом призванный в студию звукозаписи; брейкбит вызывал ассоциации с гигантскими псами-мутантами, рвущимися с поводка.
Rufige Kru был в числе немногих джангл-проектов, о которых я что-то знал. Благодаря прозелитическим статьям Саймона Рейнольдса в ныне давно не издающемся еженедельнике Melody Maker, мне было известно, что Rufige Kru – один из псевдонимов Голди, который уже тогда становился узнаваем, чего практически не случалось на традиционно анонимной джангл-сцене. Если кто и мог стать лицом этого безликого жанра, то Голди – златозубый бывший граффитист смешанного расового происхождения, – несомненно, годился на эту роль. Голди вырос на хип-хопе, но коллективное рейв-помешательство необратимо на него повлияло. Его карьера стала притчей во языцех из?за нескольких, казалось безнадежных, затыков. Любого продюсера, вышедшего из культурных недр хардкорного континуума, всегда прельщала перспектива отринуть непременно коллективный характер производства в этом жанре. Голди перед этим искушением не устоял, но, что показательно, качество его записей ухудшилось сразу же, как только он перестал использовать безличные, общие названия для своих проектов и начал издаваться под (пусть и вымышленным) именем Голди. Его первый альбом «Timeless» сгладил неорганическое звучание джангла с помощью аналоговых инструментов и настораживающе-изящного джаз-фанка. Голди стал звездой локальных масштабов, снялся в бибисишном сериале «EastEnders» и только в 2008?м выпустил альбом, который можно было ожидать от Rufige Kru еще 15 лет назад. Урок очевиден: в Британии те, кто играет urban music, могут добиться успеха, только обособившись, покинув общий культурный котел жанра.
Первые релизы под псевдонимами Rufige Kru и Metalheads, которые Голди делал в коллаборации, все еще были наполнены вибрирующей, тусовочной атмосферой. «Terminator» 1992 года был самым эпохальным: будоражащие пульсации электронных ритмов и обработанные фэйзером, растянутые биты вызывали ассоциации с искаженными, нереальными геометрическими формами, а в вокальных сэмплах Линда Хэмилтон из «Терминатора» говорила о временных парадоксах и фатальных стратегиях. Трек будто комментировал сам себя: словно временны?е аномалии, описанные Линдой Хэмилтон («Ты говоришь в прошедшем времени о вещах, которые я еще не сделала»), воплотились в головокружительно сконцентрированном саунде.
Со временем звучание Rufige Kru становилось изящнее. Если ранние записи навевали ассоциации с небрежно и наспех сшитыми вместе разрозненными частями тела, то более поздние релизы напоминали скорее генно-модифицированных монстров. На смену хаотичным и нестабильным рейв-элементам постепенно пришли структуры более четкие и мрачные. Названия композиций говорили сами за себя: «Dark Rider», «Fury», «Manslaughter» («Темный всадник», «Ярость», «Резня»). У слушателя возникало ощущение, что он, спасаясь от преследования, бежит под футуристичными сводами бруталистской аркады. Вокальных сэмплов стало меньше, они стали звучать глуше и более зловеще. На треке «Manslaughter» мы слышим одну из самых потрясающих реплик из «Бегущего по лезвию»; репликант Рой Батти говорит: «Если бы ты только видел то, что я видел твоими глазами» – идеальный девиз для новых мутантов, которых уличная наука джангла при создании наделила обостренным чувственным восприятием, но укороченным сроком жизни.
Я скупал все релизы Rufige Kru, какие мог найти, но название «Ghosts of My Life» выглядело особенно интригующе из?за отсылки к арт-поп-шедевру группы Japan 1981 года, «Ghosts» («Призраки»). Включив «Ghosts of My Life» на виниле, я сразу с восторгом узнал в вокальном сэмпле измененный голос Дэвида Сильвиана из Japan, повторявший название трека. Но это была не единственная отсылка к «Ghosts». После атонального фрагмента и дерганного брейкбита трек внезапно замирал, и – при прослушивании у меня до сих пор от этого дыхание перехватывает – в образовавшуюся брешь на краткий миг выплескивалась с ходу узнаваемая абстрактная электронщина Japan, которую тут же поглощала густая топь басов и синтетический скрежет, характерные для звучания дарксайд-джангла.
Время схлопнулось. Одни из первейших моих поп-идолов вернулись, получив новую жизнь и признание в неожиданном контексте. Синти-поп новой романтики начала 80?х, презираемый и осмеянный в Британии, но почитаемый в клубах Детройта, Нью-Йорка и Чикаго, наконец-то возвращался в родные пенаты британского андеграунда. Кодво Эшун, который в то время работал над книгой «Ослепительней солнца: приключения в соник-фикшене»[26 - Eshun K. More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction. Northhampton: Interlink Pub Group Inc., 1999.], сказал бы, что синти-поп был предтечей техно, хип-хопа и джангла так же, как дельта-блюз лежал в основе рока; я тогда чувствовал, будто утраченная часть меня – призрак из моего прошлого – была обретена вновь, пусть она и изменилась навсегда.
«Когда я уже было выиграл»[27 - «Just when I think I’m winning» – строка из песни Japan «Ghosts». – Примеч. пер.]
В 1982?м я записал песню «Ghosts» с радио и слушал ее по кругу: нажимал «play», перематывал кассету – и опять с начала. «Ghosts» – запись, которую даже сейчас хочется слушать снова и снова. Отчасти причина кроется в обилии там мелких деталей – ты никогда не чувствуешь, что объял песню целиком.
Japan больше не записали ничего уровня «Ghosts». Эта вещь – аномалия, не только из?за явно исповедального тона, обычно не свойственного группе, ценившей эстетическое выше эмоционального, но также из?за аранжировки песни, самой ее структуры. Остальные треки с «Tin Drum» – альбома 1981 года, где вышла «Ghosts», – имели пластиковое этно-фанк-звучание, где электронные потоки проносились через эластичную ритмическую архитектуру, созданную басом и ударными. На «Ghosts», однако же, нет ни барабанов, ни баса. Единственная перкуссия там звучит так, будто кто-то постукивает по металлическим позвонкам, остальное же пространство занимают звуки настолько неестественные, что их мог бы записать Штокхаузен.
От перезвона в начале «Ghosts» создается впечатление, что ты заперт внутри часового механизма. Воздух заряжен, и сквозь электрическое поле вокруг пролетают нечленораздельно щебечущие радиоволны. В то же время трек до краев заполняет спокойствие, он словно замер в равновесии. Посмотрите прекрасное живое выступление группы на передаче «The Old Grey Whistle Test», где они исполняют «Ghosts». Они там будто настраивают свои инструменты, а не играют на них.
Только Сильвиан выглядит оживленным, и то подвижно одно его лицо, наполовину скрытое густой челкой. Его вычурно тоскливый вокал идет вразрез с аскетичным электронным звучанием. Вялая тревожность музыкального ряда прерывается единственным драматическим всплеском: перед самым припевом вступает синтезатор с партией струнных, которая вписалась бы в саундтрек к какому-нибудь триллеру. «Когда я уже было выиграл / Когда я взломал все замки / Призраки моей жизни / Лютуют сильнее ветра…» [28 - «Just when I think I’m winning / when I’ve broken every door / the ghosts of my life / blow wilder / than the wind».]
Что за призраки преследуют Сильвиана? Песня не дает четкого ответа, и это лишь усиливает производимый на слушателя эффект: мы вольны заполнить пробелы своими собственными фантомами. Ясно одно: Сильвиану портят жизнь не внешние факторы. Его преследует нечто из прошлого – нечто такое, что он хотел бы оставить позади. У него не выходит, потому что это нечто он носит в себе. Ожидает ли он разрушения своего счастья, или, может, оно уже разрушено? Настоящее время в тексте – а точнее, колебание между настоящим и прошедшим – вносит неопределенность, намекает на неизбежную цикличность, на необъяснимую тягу к повторению, которая может накликать беду на самоё себя. Призраки возвращаются, потому что он боится их возвращения…
Трудно не рассматривать «Ghosts» как своего рода рефлексию о том, как Japan видели себя на тот момент. Группа была кульминацией определенного английского представления об арт-попе, которое брало начало от Боуи и Roxy Music в начале 70?х. Члены группы были родом из Бекенхема, Кэтфорда, Луишема – неприглядных районов на границе Южного Лондона и Кента; в таких же захолустных пригородах родились Дэвид Боуи, Билли Айдол и Сьюзи Сью. Как и большинство английского арт-попа, Japan находили в окружающей жизни источник лишь негативного вдохновения, им просто хотелось сбежать. «Все, связанное с детством, вызывало сознательное отторжение», – говорил Сильвиан. Поп-культура была спасением от прозы жизни. Музыка составляла лишь одну ее часть. Арт-поп был культурной школой для самоучек из рабочего класса; собирая намеки, оставленные тут и там первопроходцами (аллюзии в текстах и названиях песен или отсылки из интервью), можно было получить знания об областях, не входивших в обычную школьную программу: искусстве, европейском кинематографе, авангардной литературе… Первым делом нужно было сменить имя, и Сильвиан (урожденный Бэтт) выбрал свое в честь Сильвена Сильвена из The New York Dolls – группы, которой Japan подражали в начале своего пути.
К моменту выхода «Ghosts» от поддельной американщины в духе Dolls не осталось и следа, а Сильвиан уже отточил свой образ растиражированной пластмассовой копии Брайана Ферри. Анализируя вокал Брайана Ферри, Иэн Пенман утверждает, что его особенное звучание родилось из не вполне удачной попытки замаскировать родной северо-восточный акцент под классический, эталонный английский выговор. Вокал Сильвиана – это копия подделки. В нем сохранилась дребезжащая тоска, присущая Ферри, но она стала чистой стилизацией без какой-либо эмоциональной глубины. Это деланый вокал, совершенно неестественный; вычурный, сверхстарательно вылепленный и потому не несущий в себе эмоционального заряда. Он максимально далек от разговорного голоса Сильвиана в те годы, неловкого и робкого, с заметной печатью классовой принадлежности и южным лондонским акцентом, которые вокал стремился стереть. «Сыны первопроходцев —/ алчущие люди»[29 - «Sons of pioneers / are hungry men».].
Песня «Ghosts» исполнена чисто английских тревог – ее мог бы петь Пип из диккенсовских «Больших надежд». Выход за пределы рабочего класса в Англии всегда сопровождается страхом, что тебя разоблачат, что твои истинные корни вылезут на поверхность. Ты проколешься на незнании какого-то общепринятого правила этикета. Ты сделаешь ошибку в произношении; произношение для самоучки – постоянный источник стресса, потому что из книг не всегда понятно, как звучат слова. Быть может, «Ghosts» – пространство, где арт-поп смотрит в лицо этому страху? Страху, что твою классовую принадлежность раскроют, что происхождение невозможно спрятать, что призраки провинциального Луишема настигнут тебя, как бы далеко на восток ты ни забрался?
Japan возвели арт-поп в столь абсолютную степень поверхностности, что в пустом эстетстве они даже превзошли источники собственного вдохновения. «Tin Drum» – это даже не арт-поп, а роланбарт-поп: очевидная игра со знаками, устроенная ради их очарования. Обложка альбома сразу же вводит в этот искусственный мир: залаченная, пергидрольная челка Сильвиана красиво падает на очки в оправе как у Тревора Хорна, сам он сидит в комнате, изображающей жилище простого китайца, ест что-то палочками, сзади него от стены отклеивается плакат с Мао. Все это постановка, каждый Знак был подобран с тщанием сродни фетишизму. Тени на веках придают его взгляду почти опиумную тяжесть – и в то же время он весь неимоверно хрупкий; его лицо словно маска номэн, анемично бледное; тело безвольное, как у тряпичной куклы. Вот он один из последних глэм-принцев и, возможно, самый восхитительный из них. Его лицо и тело – изысканные, редкие произведения искусства; не внешние дополнения к музыке, а равнозначные, неотъемлемые компоненты, формирующие общую концепцию. Любой смысл – социальный, политический, культурный – из всех отсылок будто бы выкачали. Даже когда на заключительном треке «Cantonese Boy» Сильвиан поет: «Ты нужен Красной армии»[30 - «Red Army needs you».], это всего лишь дань семиотике Востока: китайские и японские империи знаков низведены до образов, используемых и вожделенных лишь для того, чтобы вызывать нервную дрожь.
К выходу «Tin Drum» Japan уже превратились из неотесанных подражателей New York Dolls в джентльменов-знатоков, из бекенхемских пареньков – в жуиров-космополитов. (Во всяком случае, они сделали все, что могли. Текст песни «Ghosts» напоминает, что трансформация не может быть абсолютной и чувство тревоги неистребимо: чем тщательнее скрываешь свое происхождение, тем больнее будет разоблачение.) «Tin Drum» поверхностен поверхностностью глянцевого снимка, отстраненность самих музыкантов сродни отстраненности профессионального фотографа. Деконтекстуализированные образы составлены в клишированно, странно абстрактную «ориентальную» панораму: Дальний Восток, каким мог бы его описать сюрреалист Реймон Руссель. Подобно Ферри, Сильвиан является и Субъектом, и Объектом: он не только застывший Образ, но и тот, кто сам собирает и комбинирует образы – не как вуайерист, а как бесстрастный художник. Бесстрастность эта, разумеется, напускная – она маскирует волнение, которое сама же и сублимирует. Слова – как маленькие лабиринты, как загадки без правильных ответов (или, может, только видимость загадок); бессмыслица за лжефасадом, украшенным китайскими и японскими мотивами.
Вокал Сильвиана – часть этого маскарада. Даже на «Ghosts» его голос нельзя принимать за чистую монету. Этот голос ничего не раскрывает (и на это не претендует) – это голос, за которым можно спрятаться, как за гримом, как за броскими ориентальными мотивами. Сильвиан кажется туристом не только в географическом смысле – он сторонний наблюдатель даже своего внутреннего мира. Его голос будто бы не исходит из тела, а льется напрямую из разума.
А что же дальше? Japan распадается, когда Duran Duran уже почти стали суперзвездами, состряпав свою версию Japan «для бедных». Сильвиан же устремился на поиски «подлинности», которые ознаменовались двумя вещами: отказом от ритма и увлечением «настоящими» инструментами. Он смыл косметику и отправился на поиски Смысла, устремился к познанию Подлинного Себя. Но до альбома «Blemish» в 2003?м все сольные релизы Сильвиана звучали так, будто он тщился достичь эмоциональной искренности, на которую его вокал был просто не способен, только теперь он уже не мог оправдать это эстетством.
«Tin Drum» был финальным студийным альбомом Japan, и вместе с тем он был одним из последних достижений английского арт-попа. Одно будущее тихо почило, но другим было суждено появиться.
«У тебя мои глаза…»
Четырнадцать лет спустя фрагмент песни «Ghosts» группы Japan появился на первом сингле Трики «Aftermath», но не в виде сэмпла, а как цитата в исполнении наставника Трики и его земляка из Бристоля, Марка Стюарта. На фоне пульсирующего напевного ритма Стюарт то ли поет, то ли говорит: «Когда я уже было выиграл, когда я думал, что непобедим…» Отсылка к Japan и присутствие на треке Стюарта, который еще со времен The Pop Group конца 1970?х был влиятельной фигурой на бристольской постпанк-сцене, – все это недвусмысленно намекало, что считать Трики просто трип-хоп-музыкантом было упрощением и заблуждением. Слишком часто трип-хопом называли просто музыку черных, в которой «чернота» приглушалась или изымалась совсем (хип-хоп без рэпа). В музыке Трики корень «трип» относился не столько к галлюциногенам, сколько к тягучему дурману марихуаны. Но Трики вывел вялость от травы за пределы накуренной истомы, на уровень провидения, где характерные для рэпа агрессия и позерство не то чтобы исчезали, но преломлялись в сонном мареве влажного гидропонного пара.