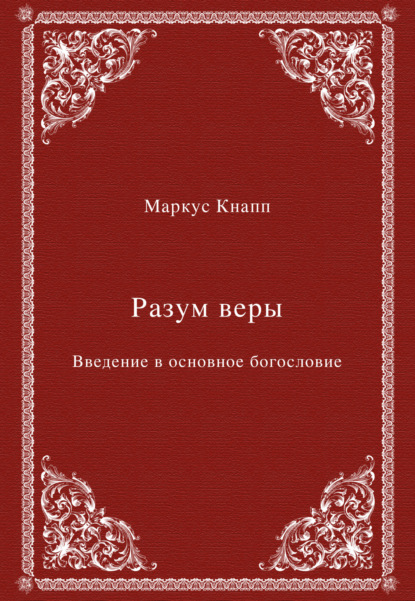По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разум веры. Введение в основное богословие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первая часть: К истории и задачам основного богословия
I. Возникновение основного богословия
Часто можно встретить утверждение, что основное богословие – это, с одной стороны, специфически католическая дисциплина, а с другой стороны, исторически довольно позднее явление. Но более внимательный взгляд позволяет принять оба этих тезиса только с большими оговорками. Правда, католический теолог Иоганн Непомук Эрлих (1810–1864) занимал первую кафедру основного богословия, учрежденную в Праге в 1856 г. Эрлих же опубликовал одну из первых работ, в заглавии которых присутствует «Основное богословие», а именно вышедший в двух частях учебник «Руководство к лекциям по общему введению в богословскую науку и теорию религии и откровения как Первая часть основного богословия» (1859) и «Руководство к лекциям по Божественному откровению как осуществленному в истории, Вторая часть основного богословия» (1862). Однако это не было чем-то совершенно новым, как явствует из того факта, что наименование «основное богословие» присутствовало в названиях некоторых апологетических произведений еще XVIII и первой половины XIX вв. (ср. Stirnimann, 1977, 295–298). Кафедра, которую занимал Эрлих, также была не вновь созданной, а переименованной кафедрой апологетики.
В том, что впоследствии название «основное богословие» все более утверждалось и получило, наконец, признание, сыграло роль несколько причин. Отрицательные ассоциации, которые всё в большей степени связывались с апологетикой, несомненно, были в числе таковых. Подобное предприятие стоит часто «под подозрением в тактической неискренности, в зауженности кругозора и идеологической ангажированности, … в нежелании и неспособности учиться, а, следовательно, в рутинизированном иммунитете к спонтанности критических вопросов и вызовам со стороны новых ситуаций» (Metz, 1992a, 24 и далее). Но более значимыми должны были быть две иные причины.
В качестве первой из них следует назвать распространенный в XIX веке концепт «основной философии» (ср. Gethmann, 1972, 1134 след.). Она понимается как первый раздел философии, ее основоположение, обосновывающее возможность философии вообще. Как таковая, она исследует начала познания, на которых утверждаются различные философские дисциплины. Эти принципы претендуют на статус априорных законосообразностей человеческого духа, «Я» или индивидуальности. Как имеющая дело с этими основополагающими началами, основная философия в своем самопонимании некоторым образом также предшествует онтологии или метафизике, поскольку они, со своей стороны, от этих фундаментальных начал зависят. Проект основной философии, несомненно, повлиял на возникновение наименования «основное богословие».
Свою роль в этой связи сыграл также Первый Ватиканский Собор. В конституции 1870 г. «Божий Сын»[27 - «Dei Filius» (лат.). Это название, традиционно, дано по первым словам текста. Официальное название документа: «Constitutio dogmatica de Fide Catholica» («Догматическая конституция о католической вере»). – Прим. пер.] о католической вере Собор утверждал, что «правильный разум доказывает основоположения веры (recta ratio fidei fundamenta demonstret)» (DH[28 - Dignitatis humanae – сигла собрания вероучительных документов Католической Церкви, изданных Генрихом Денцингером (Enchiridion symbolorum, definitonum et declarationum de rebus fidel et morum / Ed. H. Denzinger). Собрание претерпело много изданий, нельзя сказать точно, каким из них пользуется Кнaпп. Существует и электронная версия в Сети: http://catho.org/9.php?d=g1.] 3019). К этому следует прибавить стремление в теологии того времени установить среди разделов богословия такую дисциплину, которая занималась бы обоснованием и защитой веры. Формулировка Собора впоследствии также повлияла на наименование этого предмета.
Постепенная замена «апологетики» на «основное богословие» показывает, с одной стороны, что основное богословие в середине XIX века возникло не на пустом месте. С другой стороны, изменение названия сигнализировало об известной новизне во внутренней расстановке акцентов. Знакомство с предысторией поможет еще немного прояснить это и покажет, что речь здесь не идет об исключительно католической проблематике.
Уже в заглавии учебника по основному богословию И. Н. Эрлиха прозвучало, что для составителя оно, строго говоря, представлялось двояким образом, а именно, в смысле «введения в богословскую науку», и в смысле «теории религии и откровения» или «Божественного откровения как осуществленного в истории» (ср. об Эрлихе: Ebeling, 1970, 498–501; Niemann, 1984, 348–350; Stirnimann, 1977, 293). Эрлих ясно дал понять, почему он обозначил свою дисциплину как «основное богословие», а не использовал существующие названия «апологетика» или «общая догматика». По его мнению, понятия «основное богословие» и «апологетика» не полностью идентичны, поскольку последняя может быть установлена как совершенно самостоятельная небогословская дисциплина, тогда как основное богословие должно быть ориентировано на богословие вообще и, в особенности, на догматику; оно должно обеспечивать переход к ним. Однако у Эрлиха речь не шла лишь о введении в догматику, почему он и не дал своей книге название «Общая догматика» (в отличие от «частной догматики»). Его цель состояла в том, чтобы обосновать вообще богословие как науку. Речь идет, таким образом, прежде всего о научно-теоретической задаче. Основоположение догматики – при помощи теории религии и откровения, а также при помощи доказательства исторической действительности Божественного Откровения – Эрлих понимает как научно-теоретическое основоположение богословия в целом. В этом широком смысле употребляет он термин «основное богословие».
Само понятие можно проследить вплоть до XVII века (ср. Stirnimann, 1977, 295 след.; Niemann, 1995; Vergauwen, 1995, 121 след.). Однако его смысл неоднозначен – он находится в связи с различными предметами, такими, например, как основоположения моральной теологии, а иногда сводится к обзору важнейших доктрин христианства. Во всех случаях точкой отсчета выступает метафора «фундамента»[29 - «Основное богословие» в языке автора книги – Fundamentaltheologie; отсюда регулярная игра с названной метафорой. – Прим. пер.].
Однако более, нежели история понятия, важны те содержательные влияния, которые можно заметить в концепте Эрлиха. В первую очередь здесь нужно назвать Иоганна Себастьяна фон Дрея (1777–1853), основателя католической Тюбингенской школы. Его трехтомный труд «Апологетика как научное обоснование божественности христианства при его появлении» (1838–1847) прежде всего должен был стать крестным отцом для Эрлихова начинания. Drey осмыслял апологетику как особую богословскую дисциплину, призванную служить подведению основания под все богословие (Niemann, 1984, 307–314). Здесь уже проявляются две важные интенции, которые позднее станут определяющими и для основного богословия Эрлиха. Drey понимал апологетику как сугубо богословскую дисциплину и связывал с ней научно-теоретический интерес в отношении богословия как целого. Это программно звучит уже в его раннем «Кратком введении в изучение богословия с учетом научной точки зрения и католической системы» (1819): «Изложение сущности христианской системы религии есть первая задача апологетики – как основоположение для научного богословия. Без знания этой сущности невозможно ни действительное знание христианства, ни наука о нем» (Drey, 1966, 154 [§ 230]).
Основной идеей христианства Drey представлял идею Царства Божья (ср. Seckler, 1988a; Seckler, 1994). Исторически она раскрывается как центральное содержание христианства, герменевтический ключ к пониманию библейских книг и всей священной истории, наконец, как подлежащая доказательству «истинная идея разума», в которой являет себя также «истинная идея всякой религии вообще». Когда это достигнуто, «выводится доказательство внутренней истинности христианской религии» (Drey, 1966, 155 [§ 230]). В концепции апологетики как самостоятельного богословского предмета у Дрея получалась такая «теория богословия, в которой он пытался примирить положительное содержание веры с требованиями науки о разуме» (Seckler, 1981a, 60). Данную концепцию, полностью сфокусированную на содержании христианства, Drey позднее изменит в своей трехтомной «Апологетике», поскольку теперь он будет считать ее задачей более формальное построение теории религии и откровения (ср. Flury, 1979, 53 след.; Seckler, 2000a, 362 след. прим. 60). Этим определяется, в свою очередь, концепция Эрлиха.
Drey, со своей стороны, находился под влиянием евангелического богослова Фридриха Даниэля Шлейермахера (1768–1834) (ср. Schreurs), от которого перенял запрос на дисциплину, полагающую основания богословию – Шлейермахер называл ее «философской теологией». Эта идея восходит к немецкому идеализму и его притязанию на философскую энциклопедию как науко-учение, в котором система науки выводится из одного принципа[30 - Определение науки как системы, выводимой строго из одного принципа, по-видимому, принадлежит Фихте: «Каждая наука должна иметь основоположение, она даже могла бы состоять по своему внутреннему характеру из одного-единственного самого по себе достоверного положения… Но она не может иметь более одного основоположения, ибо тогда она образовала бы не одну, но несколько наук» [Фихте, 1993, 19]. – Прим. пер.]. «Заслуга Шлейермахера была в том, что он разработал в дополнение к идеалистической философии концепцию богословской энциклопедии, которая решительно утверждала бы характер богословия как положительной науки, таким образом, не требуя от него умозрительного обоснования на основе идеи науки, но с образцовой строгостью придерживаясь задачи формальной энциклопедии, дающей отчет о научности и внут- ренней организации богословия» (Ebeling, 1970, 487). Шлейермахер тем самым отзывался, не в последнюю очередь, на угрозу потери единства богословия, образовавшуюся с XVI и XVII вв. в процессе обособления друг от друга богословских дисциплин (ср. Niemann, 1995, 258 след.; Hell, 1999, 209–213).
Таким образом, можно проследить, как в основном богословии, примерно в середине XIX в. установившемся в качестве самостоятельной дисциплины, оказались связанными между собою различные аспекты и мотивы. Перед лицом нововременной критики религии и христианства не только заострялись и усугублялись вызовы и задачи, стоявшие перед апологетикой, но оказывалось под вопросом само положение богословия как науки, которое теперь нуждалось в новом и более глубоком обосновании. Кроме того, начиналась эрозия внутреннего единства и структуры богословия, что сделало необходимыми его систематизацию и рефлексию над ним. Все эти обстоятельства не были специфически конфессиональными; в ходе развития Нового времени и эпохи Просвещения они возникали одинаково как в католическом, так и в евангелическом богословии, толкая их в направлении одной и той же основополагающей богословской дисциплины, которая работала бы над их разрешением. Впрочем, самостоятельная дисциплина такого рода возникла потом лишь в католической среде, что стало восприниматься как результат особого развития в католицизме. Только в недавнем прошлом евангелическая теология обзавелась эксплицитными концепциями в области основного богословия (ср. ниже с. 100 и далее[31 - В тексте автора присутствуют подобные внутренние сноски на те или иные разделы книги. В настоящем издании мы сочли возможным отказаться от них. – Прим. свящ. Д. Лушникова.]).
Несмотря на то, что основное богословие обязано своим формированием специфическим условиям Нового времени, нельзя не принимать во внимание, что тем самым в совершенно изменившихся условиях была продолжена одна из изначально центральных, если не центральная, интенция христианского богословия: а именно, его апологетическое назначение, запрос на которое восходит к Новому Завету.
II. Апологетическая традиция в богословии
Греческое понятие ???????? относится первоначально к судебному процессу и подразумевает защитительную речь перед судом. В этом смысле оно используется еще в Новом Завете (Лк 12:11; 21:14; Деян 22:1; 24:10; 25:8; 26:1 след.; 2 Тим 4:16). Впоследствии содержание понятия в речевом обиходе расширилось, так что оно стало выражать также доказательную защиту философских или религиозных убеждений, учений и обычаев, а соответственно, и подкрепленный силами разума призыв к их принятию. В античности парадигма для такого значения была задана Платоновой «Апологией Сократа». Но и в Новом Завете смысл слова ???????? иногда приближается к этому (ср. Флп 1:7, 16). Особенно ярко – в 1 Пет 3:15, где сказано: «Будьте готовы всегда ???? ????????? перед всяким взыскивающим с вас ????? о вашем уповании». Это место нередко представляется как «Великая хартия»[32 - «Magna Charta». Подразумевается «Великая хартия вольностей», закреп- лявшая ряд прав свободного населения Англии в 1215 г. Здесь: в значении документа-источника. – Прим. пер.] для основного богословия.
Призыв 1 Пет 3:15 позволяет выделить пять важнейших аспектов (Ritt, 2000; Seckler, 2000a, 353–356; Verweyen, 2000a, 37 след.; Waldenfels, 2000, 82).
1) Он относится ко всем христианам, а не только к группе «специалистов». Если теология делает задачу, поставленную в этом призыве, своей собственной, то тем самым она, выступая от лица (stellvertretend) всех христиан, принимает на себя нечто существенное для христианской веры.
2) Апология должна быть предоставлена каждому, кто ее требует. Согласно 1 Пет 3:15, христианская вера без ограничений «апологообязана».
3) В этой апологии речь идет об уповании христиан, то есть о том, чего они, как верующие, ожидают или чают. Иными словами – о смысле и цели существования.
4) Призыв 1 Пет 3:15 заключает в себе уверенность в том, что христианская вера способна к апологии, и усилию в данном направлении будет сопутствовать успех. Эта уверенность основывается на логосности христианского упования, т. е. его согласии с разумом: «Оно логосно в себе самом и», к тому же, «открыто для своего логосного развития при помощи разума» (Seckler, 2000a, 355), даже перед неверующими.
5) Таким образом, ???????? также означает – давать отчет об этой разумности христианского упования, а вместе с тем о содержащих это упование христианских верованиях, о связанном с ними христианском образе жизни.
1. В Древней Церкви
Такую задачу поставили перед собой христианские богословы. Развивавшиеся в связи с ней апологии христианства не следовали какой-либо твердой схеме, но были в значительной мере обусловлены конкретными поводами и обстоятельствами (ср. обзоры: Barnard, 1978; Geerlings, 2000; и в особенности Fiedrowicz, 2000). Эта раннехристианская апологетика нашла себе некий прообраз в иудейских усилиях защитить свою веру, которые в начале новой эры получили воплощение прежде всего в трудах Филона Александрийского и Флавия Иосифа (Fiedrowicz, 2000, 29 след.). Оба они старались отразить критику и обвинения, выдвигавшиеся в эллинистической среде против иудейства (например, обвинение в отсутствии политической лояльности или в атеизме из-за отказа от участия в государственном культе). Высокая оценка, полученная ими в христианских кругах, явствует из того, что труды обоих иудейских апологетов были сохранены именно христианами.
Возникновение специфически христианской апологетики было связано с выходом христианской общины из иудейства. Только после этого христиане могли быть восприняты как религиозная группа наряду с иудейством; до этого они казались не более чем движением внутри него. Следствием такого шага стало жесткое полемическое размежевание с иудейством. Пример тому представляет, например, Послание Варнавы (ок. 130), согласно которому Бог заключил завет с одними христианами, в то время как иудеи отвергли предложенный им завет своей греховностью (Варн 4:6–8; 14). Христианская литература против иудеев (adversus Judaeos) берет свое начало уже в том раннем времени (Barnard, 1978, 394–398; Lange, 1978, 134 след.; Schreckenberg, 1990, 179 и далее); в частности, сохранилось сочинение Ипполита Римского под таким названием. В связи с этим апологетические устремления в христианстве кажутся скомпрометированными частичным содействием развитию христианского антииудаизма.
Следующим значительным поводом для появления христианской апологетики стало неправильное понимание христианской веры, а также доносы и гонения на христиан. Они возникали частью в связи с их образом жизни – особенно с их отношением к официальному государственному культу, – частью же в связи с христианским богослужением. Так, христиан обвиняли в том, что на их богослужебных собраниях практикуются каннибализм, инцест и детоубийство. Это должно было отталкивать от них, так же как их неучастие в народных представлениях и увеселениях. Но более всего раздражал отказ христиан приносить жертвы узаконенным богам и чтить императорские изображения. Так же как в иудеях, в них видели «атеистов» – обвинение, политически чреватое в связи с тем, что старые римские боги выступали гарантами политической устойчивости и всеобщего благосостояния. Поведение христиан ставило их под подозрение в отсутствии политической лояльности и даже во враждебности государству. Христианство казалось не просто чуждым и сомнительным культом, но опасной политической угрозой. Это подозрение усиливалось ввиду строгого монотеизма христиан, который делал невозможным включение христианского Бога в римский пантеон как одного из принципиально равноправных божеств.
Поскольку следствием этих обвинений были враждебность и гонения, христианские апологеты пытались ослабить и отклонить их. Они писали жалобы Кесарю[33 - Нем. Kaiser, зд. – римский император. – Прим. пер.], чтобы добиться признания христианства и законной защиты. Для этого требовалось не только устранить непонимание и ложь относительно христианства. Христианские апологеты должны были показать, что их вера и соответствующая ей жизненная практика соответствуют самым взыскательным нравственным запросам и наиболее возвышенным философским взглядам. Таким образом, требовалось недвусмысленное обращение к философии, чтобы доказать, что христианство находится в согласии с ее познаниями и ни в коей мере не может расцениваться как нечто противоразумное.
Особенно мощный пример подал Иустин († ок. 165). Чтобы добиться общественного признания для христианства, он обратился с гражданско-правовой петицией к Кесарю. Он отверг обвинение в атеизме, подчеркнул лояльность христиан государству и рассеял предубеждение относительно их богослужебной практики. Все это Иустин связал с основательной апологией христианства, в которой он явственно выступил от имени философии, как проходивший перед своим обращением в христианство курс философского образования.
Исходной точкой для Иустина была радикальная трансцендентность Бога, как ее представляла, в особенности, платоновская философия. Бог чисто духовен и совершенно отличен от мира. Поэтому Он далеко отстоит и от человека; тот лишь с большим трудом познает Его и составляет понятие о Нем. На этом фоне Иустин определяет Христа как Логос Божий, через Который Бог обращается к человеку и тем становится познаваемым. Христос, как вочеловечившийся Логос Божий, преодолел казавшуюся дотоле непереходимой пропасть между трансцендентностью Бога и миром в его пространственности и материальности.
Но этот вочеловечившийся в Иисусе из Назарета Логос Божий (Ин 1:14) еще до Своего вочеловечения действовал в творении как «семенной логос»[34 - «????? ???????????» (греч.) – восходящая к Гераклиту, но преимущественно стоическая концепция присутствия повсюду в мире отпечатлений мирового разума (логоса), перенятая христианскими апологетами во II в. в связи с ее созвучием 1-й главе Евангелия от Иоанна. – Прим. пер.] (2-я Апология, 8.3; 13.3), т. е. как логос, высеивающий семена истины. Так, Он, с одной стороны, соприсутствовал Моисею и пророкам, посредникам ветхозаветного откровения, с другой – разбрасывал семена истины в человеческом разуме. Деятельность, которую приписывает Ему в связи с этим Иустин, состояла в том, чтобы сдерживать демонические влияния на человека, тем самым освобождавшегося от своих иррациональных страстей и восстанавливавшегося в своей истинной разумности. Таким образом, человеческий разум заслуживает доверия, потому что Божественный Логос всегда стоит на его стороне. Это позволяет Иустину рассматривать некоторых философов, особенно Сократа, как философов «христианских», как «христиан до Христа», развенчивавших демонические наваждения и посвящавших себя поиску истинного Бога.
Но своей безусловной вершины эта деятельность Логоса достигла в Его вочеловечении; как вочеловечившийся, Он смог непосредственно говорить к людям и, таким образом, сделать Божественную истину в высшей степени познаваемой. В связи с этим Иустин говорит о христианстве как об «истинной философии» (Диалог с Трифоном Иудеем, 1–8), ведь знание Божественной истины, к которому философия стремится, впервые было действительно достигнуто в христианской вере. «Учение христианское истинно не потому, что оно совпадает с истиной, достигнутой в философиях, а также сохраняет ее в себе, но потому что оно есть полный образ той истины, осколки которой сохранялись в философиях» (Honnefelder, 1992, 63).
С такой концепцией логосного богословия Иустин ставит христианскую веру в положительное отношение к до- и внехристианской философии, в котором «ясное видение того, что является особенным в христианстве, сочетается со способностью отыскать элементы истины в греческой философии и поэзии, которые делают христианское послание воспринимаемым как аутентичное послание Логоса» (Fiedrowicz, 2000, 43). Здесь скрывается огромное притязание – христианство обладает единственной, универсальной истиной, которая может быть также осознана как истина разума.
Так была намечена главная линия христианской апологетики. Это стало понятно тогда, когда с III в. начала образовываться ее новая форма (Fiedrowicz, 2000, 49 след.). Она была вызвана уже не прямыми гонениями, а литературными нападками языческих философов. Их враждебные действия порождали неуверенность в самом христианском сообществе, что сделало желательным полемическое противостояние их писаниям. Прототипом этой новой формы апологетики стал составленный около 246 г. труд Оригена (ок. 185–254) «Против Цельса» (Barnard, 1978, 392–394; Fiedrowicz, 2000, 50–52; 65–67; Reemts, 1998; Verweyen, 2005, 144–149). Ориген обращался в нем к христианам, которые были введены в сомнения появившимся примерно за 70 лет до этого критическим по отношению к христианству сочинением Цельса. Последний ставил под вопрос не только достоверность библейского предания. Возможно, принимая вызов апологии христианства Иустина, Цельс оспаривал саму возможность соединения христианской веры с философской мудростью; он обвинял христиан в необразованности и легковерии, из-за которых они придерживаются иррациональных верований. К этому он прибавлял традиционное обвинение в том, что из-за отречения от традиционной религии в пользу христианства основания общества и государства оказались порушены. Очевидно, эти выпады Цельса и десятилетия спустя вызывали среди христиан смущение и сомнения в вере, так как они все еще не находили достойного возражения.
В своем ответе – «вершине апологетического движения II и III вв.» (Barnard, 1978, 393) – Ориген отстаивал разумность христианства. Как и Иустин, он видел его не только равноценным с учениями философов, но и превосходящим их. Этому не противоречило то, что в действительности среди христиан было много необразованных. Напротив, Ориген усматривал в этом признак большей силы христианского послания как слова Божьего, способного дойти до людей и изменить их, по сравнению с учениями Платона и других философов (Против Цельса, 1.27; 6.2). Если Платон обращался лишь к образованным, то Бог в Своей благости и Своем человеколюбии Сам стал Человеком, чтобы таким образом говорить ко всем людям и суметь подвигнуть их к изменению их жизни (Против Цельса, 7.42, 44). Поэтому Ориген также не мог признать опасным распространение христианства, напротив, он усматривал в нем возможность всеобъемлющего морального изменения сознания. Итак, он решительно возвращал Цельсу назад его требование к христианам служить разным античным богам на том основании, что они принадлежат высшему Богу (Против Цельса, 8.2). Как ранее Иустин, Ориген мог усматривать в этих божествах лишь демонические силы (Против Цельса, 7.69 след.). «Едва ли какое-то другое произведение апологетической литературы позволяет так непосредственно прочувствовать конфронтацию между античностью и христианством, как обширный полемический труд Оригена, который при помощи цитат и возражений на высоком интеллектуальном уровне создает ситуацию разговора между представителями двух культур – старой эллинистической традиции и новой христианской религии» (Fiedrowicz, 2000, 67).
Ориген также руководствовался убеждением, что христианство должно защищать свои притязания на истинность перед лицом философского разума, идеи которого оно продолжает и завершает. Эта главная линия ранней христианской апологетики особенно действенным образом проявила себя еще раз в конце древнецерковной эпохи у блж. Августина (354–430). Его апологетические устремления достигли вершины в монументальном труде «О Граде Божьем», появившемся между 413 и 426 гг. (Knapp, 1993, 295–308). Поводом к его написанию послужило разорение Рима готами в 410 г., и вызванный этим распад Римской Империи. В это время христиане столкнулись с обвинением в том, что причиной случившейся политической катастрофы стало возвышение статуса христианства до государственной религии, одновременно с пренебрежением старыми богами. Казалось, сбылись прозрения Цельса и других языческих интеллектуалов: отказ от традиционной религии разрушил основы государства. Но и многие христиане были ввержены в сомнения, их вера в Божественное провидение поколебалась. Ранее они понимали христианизацию Римской Империи как решительный шаг во всемирном распространении Евангелия перед близким концом света. Против такого отождествления мирской политической власти с Царством Божьим выступил блж. Августин в своем трактате. Он доказывал, что «Град Божий» (Сivitas Dei) не представляет собой какое-либо мирское государственное образование, но создается «любовью к Богу (amor Dei), дошедшей до презрения к себе», в отличие от «града земного» (civitas terrena), который основывается «на любви к себе (amor sui), дошедшей до презрения к Богу» (О Граде Божьем, XIV.28). Таким образом, решающей для осуществления эсхатологического спасения остается устремленность человека к Богу, а не расширение политической или военной власти. Осуществление Града Божьего не просматривается в движении мировой истории.
Августиновская апология христианства была основана, вместе с тем, на предпосылке, согласно которой христианское притязание на истину может быть оправдано перед лицом философского разума. При этом блж. Августин рассматривает платонизм как олицетворение, в некотором смысле, философии, поскольку речь здесь идет о реальности духа. Только там, где философия полностью устремляет свой взгляд на духовное, она может достигнуть Бога, ибо Бог есть чисто духовная действительность[35 - Определение Бога как «действительности» (Wirklichkeit), непривычное для нашего слуха, основывается, прежде всего, на Его характеристике схоластами как actus purus (чистый акт), а также восходит к традиции описания Бога через Его «силу» (virtus). – Прим. пер.]. Итак, блж. Августин усматривает многочисленные совпадения между христианством и платонизмом. Но, несмотря на эту значительную близость, платонизм нуждается в восполнении христианством, чтобы совершенно воспринять Божественную истину. Христос впервые являет эту истину человеку неложным образом и тем открывает для него путь к блаженству. Ибо речь здесь идет о вневременной истине, о вечно-сущей. Эта истина сокрыта от конечного, подверженного постоянным изменениям мира; она, в противоположность ему, радикально трансцендентна. Поэтому человеческое стремление к истине не достигает цели, как показывают сами противоречащие друг другу высказывания философов (Об истинной религии, I. 1). Христос, воплотившееся Слово Божье, впервые открыл людям трансцендентную Божественную истину и повел их к ней. Поэтому вера во Христа, по блж. Августину, составляет необходимое условие для того, чтобы философское стремление к познанию достигло цели. «Вечность относится к становящемуся как истина к вере» (О Троице, IV.18.24)[36 - Блж. Августин здесь неточно цитирует Платона (Тимей 29с) по переводу Цицерона. – Прим. пер.]. Ошибка платонизма, по блж. Августин у, заключается в том, что себе он отказал в этой вере. Ибо это есть «всеобщий, указанный Божественным милосердием путь ко спасению человеческой души» (О граде Божьем, Х. 32).
Таким образом, христианская апологетика в древности была направлена на то, чтобы доказать, что христианство не является религией, сотворенной людьми, подобно римскому государственному культу. Христианство, напротив, должно было быть понято как «истинная религия», поскольку «ее внушает и ей учит своих истинных почитателей истинный Бог» (О граде Божьем, VI.4). Этот религиозный запрос на истину был как применимым по отношению к философии, так и критически обращенным против нее, поскольку речь шла о богооткровенной истине, которая превосходит всю мудрость философии; последняя может лишь готовиться и подводить к ней, но не может самостоятельно ее достигнуть.
«С этой программой, начатой апологетами и окончательно сформулированной Августином, “новое” и “уникальное” в христианской вере могло быть истолковано не только как то, что всегда и для всех необходимо, но и как то, что превосходит все предшествующее и его интегрирует. Вопрос греческой философии о действительности в целом и ее объединяющей причине, утонченные умозрения Божественного бытия, его свойств, его связанных с трансцендентностью и имманентностью отношений к миру представали как предварительные этапы и понятийные средства для христианского учения. Христианское исповедание веры и философское исповедание разума связываются в высшем единстве всеобъемлющей христианской мудрости, в “нашей философии”, по словам Августина, как “истинной философии”» (Honnefelder, 1989, 296).
Вполне программное выражение этот синтез философии с верой в откровение нашел в также восходящей к блж. Августину формуле «credo ut intelligam» («верую, чтобы понимать»). Она не позволяет ошибиться: в этой концепции вера и разум соподчинены друг другу. Вера сама из себя высвобождает стремление к познанию, направленное к углубленному пониманию веры. Этот так называемый у отцов Церкви «разум веры» (intellectus fidei), который «впоследствии приобрел название теологии» (Honnefelder, 1989, 295), обращается, с одной стороны, к философскому разуму, вбирая в себя его идеи, но, с другой стороны, проводя их дальше и доводя до совершенства. Следовательно, вера никоим образом не редуцируется к идеям ума. «Напротив, апологеты обладали ясным сознанием особенности христианства, которую они разрабатывали и приводили в действие вопреки языческой философии и религии. Отличительно христианское заключалось в характере истины веры как откровения» (Fiedrowicz, 2000, 313).
Итак, христианская теология с самого начала имела апологетический характер; можно сказать даже, что апологетический момент дал внутренний импульс появлению христианской тео- логии. Но эта апологетика не была преимущественно оборонительной, закрытой для диалога и окопавшейся в самой себе стратегией правовой защиты. Она уже очень рано приняла характер обращения в веру, миссионерства; стремилась показать, что христианство представляет собой убедительную и достоверную альтернативу религиям, философиям и мировоззрениям античности. В этом она исходила из уверенности, что Евангелие не предназначено для маленькой группы избранных, но должно быть донесено до всех народов (Мф 28:19 след.). Таким образом, христианская апологетика участвовала в связанном с библейским посланием Христа всемирном посланничестве и в высвобожденном им движении. Ее специфика состояла при этом в доказательном раскрытии христианского притязания на истину как универсального. Ради этой цели христианская апологетика связала себя с философией, ибо лишь перед судом философского разума она могла снять с христианской веры «подозрение в децизионистской[37 - Децизионизм (Dezisionismus) – «теория решения», волюнтаристская политическая теория, появление которой связывают с именем Карла Шмидта (1888–1985). Здесь речь идет о решении, предшествующем своему основанию. – Прим. пер.] произвольности и обосновать ее как общую возможность для человеческого существа» (Fiedrowicz, 2000, 228).
Сколь бы впечатляющей ни казалась концепция христианства как истинной философии, она имеет свои четкие границы, которые в конечном итоге делают ее разрушение неизбежным. До тех пор, пока разум не встанет на почву откровения Христова, он, согласно этой концепции, останется ущербным, в некотором смысле уполовиненным. Но этим был «дан повод к борьбе философии за свободу от богословия» (Pannenberg, 1978, 61). Последнее тем более верно, что христианская теология, сознавая себя истинной философией, взяла на себя совершенно неисполнимые притязания «стать всеохватной “наукой обо всем”» (Honnefelder, 1992, 56). Таким образом, этот патристический синтез философии и веры в откровение в конечном счете свидетельствует о недостаточности обеих:
«Философия теряет свою самостоятельность и становится просто переходной стадией, “преддверием” теологии. Трактуя себя как “истинную философию”, теология обессиливает философию, лишает ее ее же специфических возможностей и, тем самым, перегружает саму себя: ей приходится вникнуть в универсальный запрос философского разума и взять на себя всю тяжесть философских вопросов и ответов. Но именно этим она мешает себе должным образом удовлетворить универсальности своего призвания, которое исходит не из ума, а из спасительного деяния Божья. Подразумеваемое универсальностью запросов разума и откровения различие между теологией и философией не может быть осуществлено в рамках этой концепции» (Honnefelder, 1992, 73).
Несмотря на свою неудачу, древнецерковная концепция христианства как истинной философии оказала устойчивое воздействие на дальнейшее развитие христианства. Ранний союз с философией укрепил убежденность в логосности христианской веры и ее сопряженности с универсальным притязанием на истину. Этим, в свою очередь, была заложена основа способности к критической авторефлексии, которая впоследствии всегда помогала христианству в преодолении духовных и общественно-культурных переломов.
2. В Средние века
После того как вследствие поворота, осуществленного Константином, христианство стало преобладающей духовно-культурной силой, прежняя апологетика в значительной степени потеряла свое значение. Правда, как и раньше, продолжались апологетические споры с иудаизмом и позднее также с исламом. Но по-настоящему новым вызовом стала начавшаяся в IX–X вв. сциентизация мысли, сопровождавшаяся стремлением к рациональности в различных областях знания, таких как медицина и право (Honnefelder, 1989, 298). В богословии это стремление к научному рационализму проявилось наиболее настойчиво и последовательно у Ансельма Кентерберийского (1033–1109).
Ансельм непосредственно находился в Августиновской традиции «верую чтобы понимать» (credo ut intelligam). Но также он исходил из предзаданности веры. Об этом говорит его ставшая лейтмотивом формула «вера, стремящаяся к пониманию» (fides quaerens intellectum), первоначально задуманная как название для «Прослогиона». Ансельм основывался на том, что вера инициирует стремление к познанию, чтобы прийти к более глубокому пониманию себя самой (intellectus fidei) и постичь свою собственную разумность (ratio fidei). Это достигается тогда, когда вера познает свое собственное основание и утверждается в истине того, во что верует. Новое у Ансельма состоит в том, что он осмысляет программу «веры, ищущей (более глубокого) понимания» подробнее и точнее с методической точки зрения, чем это делалось до него (Kienzler, 1981; Dalferth, 1992; Christe, 1985; Larcher, 2000, 233–235; Verweyen, 2006b).
Вера, по Ансельму, есть дар Божий; человек не в состоянии сам ее достигнуть. Отсюда исходят следствия для осознания истины веры – насколько маловероятно, что человек может самостоятельно прийти к вере, настолько же малове-роятно то, что он может сам по себе осознать ее истину. Осознание это в большей степени основано, по убеждению монаха-бенедиктинца Ансельма, на созерцательном сосредоточении в Боге (Dalferth, 1992, 59). Соответственно этому «Прослогион» помещен в ситуацию молитвы. Уже из его внешней формы понятно – разум веры может быть достигнут лишь тогда, когда познающий субъект позволяет себе ощутить присутствие Бога, предмета познания, чтобы самому испытать истину Божию. Однако эта истина должна затем раскрываться и при помощи аргументации. «Ибо, насколько несомненно, что разум веры (intellectus fidei) как осознание истины есть всецело дар Божий, результат Божественного просвещения (illuminatio), так несомненно и то, что как осознание истины он есть результат достигнутой только разумом (sola ratione) способности человека понимать (intelligere)» (Dalferth, 1992, 61). При этом для Ансельма «только разумом» (sola ratione) означает, что в строении такой аргументации ничто не может быть основано на авторитете Писания. Только тогда возникает мысленный взгляд на разумность веры, когда мысль развивается под собственную ответственность и только себя саму имея своим условием, т. е. следует лишь своему разуму.
Наиболее четко Ансельм сформулировал эту методологическую программу в предисловии к своему труду «Почему Бог стал человеком» (Cur Deus homo): «Умалчивая о Христе (remoto Christi), будто Его и вовсе никогда не было, [эта книга] убедительными рассуждениями (rationibus necessariis) доказывает (probat), что без Него человек не смог бы спастись». Речь идет об обосновании «матрицы смысла» (Verweyen, 2000a, 217), которая лежит в основе откровения Христа и, тем самым, христианской веры. Это обоснование должно быть достигнуто без предпосылок веры, в чисто философском порядке доказательства, т. е. посредством аргументов, необходимых в смысле строго логическом, а значит, обязательных и неопровержимых. Это никоим образом не делает принятие веры избыточным, ибо послание христианского откровения может первоначально раскрыться как истинное только в вере, а для Ансельма это значит – в молитвенно-созерцательном сосредоточении в Боге, поскольку вера первоначально «верифицируется в благодатном Божественном просвещении (illuminatio)» (Dalferth, 1992, 61). Молитва и доказательство не являются для Ансельма взаимоисключающими альтернативами, но дополняют друг друга. Достигнутым исключительно посредством разума (sola ratione) доказательством осмысленности христианского откровения обеспечивается разумность веры. Это, во-первых, принимающему веру позволяет подготовиться к ответу перед разумом; во-вторых, открывает доступ к более глубокому пониманию веры; наконец, в-третьих, делает веру рационально объяснимой неверующим и тем самым приглашает их к тому, чтобы самостоятельно испытать послание откровения как истинное уже в их собственной вере.
Данный концепт Ансельма покоится на одном существенном допущении – в традиции блж. Августина (О граде Божьем, XI.26) Ансельм исходит из того, что дух человеческий представляет собой образ триединого Бога. Бог так начертал Себя на духе человеческом, чтобы даже в мысли, живущей исключительно посредством разума (sola ratione), смысловой строй истин веры мог быть воссоздан и постигнут. Даже скептик и глупец не могут закрыться от этого, если только они используют разум надлежащим образом. Таким образом, Ансельм мыслит это не так, как в Новое время судили об основанном на самом себе разуме. «В горизонте идеи образа автономия “sola ratione” может быть основана только на предшествующей гетерономии[38 - Гетерономия (от греч. ?????? другой и ????? закон) – философский термин, означающий управляемость объекта или системы по законам, имеющим стороннее происхождение (антоним: автономия). – Прим. пер.] относительно Бога, где одна другую не снимает, а скорее высвобождает» (Christe, 1985, 370). Духовная метафизическая предпосылка, обосновывающая оптимизм Ансельма, состоит в том, что разум с присущей ему принудительностью (rationes necessariae) может распознать Бога и Его спасение как соответствующие себе самому.
Ансельм, тем самым, ступил на путь к методологически самостоятельному философскому мышлению. У него возымело действие то стремление к рациональности, которое охватывало тогда все области знания. Таким образом Ансельм принял участие в разрушении концепции, согласно которой само по себе христианство и есть истинная философия. Однако для него разум веры (intellectus fidei) и философское мышление, по крайней мере, оставались переплетенными друг с другом постольку, поскольку разум воспринимался как теологически квалифицированный разум. Здесь рациональное обоснование веры находило у Ансельма принципиальное условие своей возможности.
I. Возникновение основного богословия
Часто можно встретить утверждение, что основное богословие – это, с одной стороны, специфически католическая дисциплина, а с другой стороны, исторически довольно позднее явление. Но более внимательный взгляд позволяет принять оба этих тезиса только с большими оговорками. Правда, католический теолог Иоганн Непомук Эрлих (1810–1864) занимал первую кафедру основного богословия, учрежденную в Праге в 1856 г. Эрлих же опубликовал одну из первых работ, в заглавии которых присутствует «Основное богословие», а именно вышедший в двух частях учебник «Руководство к лекциям по общему введению в богословскую науку и теорию религии и откровения как Первая часть основного богословия» (1859) и «Руководство к лекциям по Божественному откровению как осуществленному в истории, Вторая часть основного богословия» (1862). Однако это не было чем-то совершенно новым, как явствует из того факта, что наименование «основное богословие» присутствовало в названиях некоторых апологетических произведений еще XVIII и первой половины XIX вв. (ср. Stirnimann, 1977, 295–298). Кафедра, которую занимал Эрлих, также была не вновь созданной, а переименованной кафедрой апологетики.
В том, что впоследствии название «основное богословие» все более утверждалось и получило, наконец, признание, сыграло роль несколько причин. Отрицательные ассоциации, которые всё в большей степени связывались с апологетикой, несомненно, были в числе таковых. Подобное предприятие стоит часто «под подозрением в тактической неискренности, в зауженности кругозора и идеологической ангажированности, … в нежелании и неспособности учиться, а, следовательно, в рутинизированном иммунитете к спонтанности критических вопросов и вызовам со стороны новых ситуаций» (Metz, 1992a, 24 и далее). Но более значимыми должны были быть две иные причины.
В качестве первой из них следует назвать распространенный в XIX веке концепт «основной философии» (ср. Gethmann, 1972, 1134 след.). Она понимается как первый раздел философии, ее основоположение, обосновывающее возможность философии вообще. Как таковая, она исследует начала познания, на которых утверждаются различные философские дисциплины. Эти принципы претендуют на статус априорных законосообразностей человеческого духа, «Я» или индивидуальности. Как имеющая дело с этими основополагающими началами, основная философия в своем самопонимании некоторым образом также предшествует онтологии или метафизике, поскольку они, со своей стороны, от этих фундаментальных начал зависят. Проект основной философии, несомненно, повлиял на возникновение наименования «основное богословие».
Свою роль в этой связи сыграл также Первый Ватиканский Собор. В конституции 1870 г. «Божий Сын»[27 - «Dei Filius» (лат.). Это название, традиционно, дано по первым словам текста. Официальное название документа: «Constitutio dogmatica de Fide Catholica» («Догматическая конституция о католической вере»). – Прим. пер.] о католической вере Собор утверждал, что «правильный разум доказывает основоположения веры (recta ratio fidei fundamenta demonstret)» (DH[28 - Dignitatis humanae – сигла собрания вероучительных документов Католической Церкви, изданных Генрихом Денцингером (Enchiridion symbolorum, definitonum et declarationum de rebus fidel et morum / Ed. H. Denzinger). Собрание претерпело много изданий, нельзя сказать точно, каким из них пользуется Кнaпп. Существует и электронная версия в Сети: http://catho.org/9.php?d=g1.] 3019). К этому следует прибавить стремление в теологии того времени установить среди разделов богословия такую дисциплину, которая занималась бы обоснованием и защитой веры. Формулировка Собора впоследствии также повлияла на наименование этого предмета.
Постепенная замена «апологетики» на «основное богословие» показывает, с одной стороны, что основное богословие в середине XIX века возникло не на пустом месте. С другой стороны, изменение названия сигнализировало об известной новизне во внутренней расстановке акцентов. Знакомство с предысторией поможет еще немного прояснить это и покажет, что речь здесь не идет об исключительно католической проблематике.
Уже в заглавии учебника по основному богословию И. Н. Эрлиха прозвучало, что для составителя оно, строго говоря, представлялось двояким образом, а именно, в смысле «введения в богословскую науку», и в смысле «теории религии и откровения» или «Божественного откровения как осуществленного в истории» (ср. об Эрлихе: Ebeling, 1970, 498–501; Niemann, 1984, 348–350; Stirnimann, 1977, 293). Эрлих ясно дал понять, почему он обозначил свою дисциплину как «основное богословие», а не использовал существующие названия «апологетика» или «общая догматика». По его мнению, понятия «основное богословие» и «апологетика» не полностью идентичны, поскольку последняя может быть установлена как совершенно самостоятельная небогословская дисциплина, тогда как основное богословие должно быть ориентировано на богословие вообще и, в особенности, на догматику; оно должно обеспечивать переход к ним. Однако у Эрлиха речь не шла лишь о введении в догматику, почему он и не дал своей книге название «Общая догматика» (в отличие от «частной догматики»). Его цель состояла в том, чтобы обосновать вообще богословие как науку. Речь идет, таким образом, прежде всего о научно-теоретической задаче. Основоположение догматики – при помощи теории религии и откровения, а также при помощи доказательства исторической действительности Божественного Откровения – Эрлих понимает как научно-теоретическое основоположение богословия в целом. В этом широком смысле употребляет он термин «основное богословие».
Само понятие можно проследить вплоть до XVII века (ср. Stirnimann, 1977, 295 след.; Niemann, 1995; Vergauwen, 1995, 121 след.). Однако его смысл неоднозначен – он находится в связи с различными предметами, такими, например, как основоположения моральной теологии, а иногда сводится к обзору важнейших доктрин христианства. Во всех случаях точкой отсчета выступает метафора «фундамента»[29 - «Основное богословие» в языке автора книги – Fundamentaltheologie; отсюда регулярная игра с названной метафорой. – Прим. пер.].
Однако более, нежели история понятия, важны те содержательные влияния, которые можно заметить в концепте Эрлиха. В первую очередь здесь нужно назвать Иоганна Себастьяна фон Дрея (1777–1853), основателя католической Тюбингенской школы. Его трехтомный труд «Апологетика как научное обоснование божественности христианства при его появлении» (1838–1847) прежде всего должен был стать крестным отцом для Эрлихова начинания. Drey осмыслял апологетику как особую богословскую дисциплину, призванную служить подведению основания под все богословие (Niemann, 1984, 307–314). Здесь уже проявляются две важные интенции, которые позднее станут определяющими и для основного богословия Эрлиха. Drey понимал апологетику как сугубо богословскую дисциплину и связывал с ней научно-теоретический интерес в отношении богословия как целого. Это программно звучит уже в его раннем «Кратком введении в изучение богословия с учетом научной точки зрения и католической системы» (1819): «Изложение сущности христианской системы религии есть первая задача апологетики – как основоположение для научного богословия. Без знания этой сущности невозможно ни действительное знание христианства, ни наука о нем» (Drey, 1966, 154 [§ 230]).
Основной идеей христианства Drey представлял идею Царства Божья (ср. Seckler, 1988a; Seckler, 1994). Исторически она раскрывается как центральное содержание христианства, герменевтический ключ к пониманию библейских книг и всей священной истории, наконец, как подлежащая доказательству «истинная идея разума», в которой являет себя также «истинная идея всякой религии вообще». Когда это достигнуто, «выводится доказательство внутренней истинности христианской религии» (Drey, 1966, 155 [§ 230]). В концепции апологетики как самостоятельного богословского предмета у Дрея получалась такая «теория богословия, в которой он пытался примирить положительное содержание веры с требованиями науки о разуме» (Seckler, 1981a, 60). Данную концепцию, полностью сфокусированную на содержании христианства, Drey позднее изменит в своей трехтомной «Апологетике», поскольку теперь он будет считать ее задачей более формальное построение теории религии и откровения (ср. Flury, 1979, 53 след.; Seckler, 2000a, 362 след. прим. 60). Этим определяется, в свою очередь, концепция Эрлиха.
Drey, со своей стороны, находился под влиянием евангелического богослова Фридриха Даниэля Шлейермахера (1768–1834) (ср. Schreurs), от которого перенял запрос на дисциплину, полагающую основания богословию – Шлейермахер называл ее «философской теологией». Эта идея восходит к немецкому идеализму и его притязанию на философскую энциклопедию как науко-учение, в котором система науки выводится из одного принципа[30 - Определение науки как системы, выводимой строго из одного принципа, по-видимому, принадлежит Фихте: «Каждая наука должна иметь основоположение, она даже могла бы состоять по своему внутреннему характеру из одного-единственного самого по себе достоверного положения… Но она не может иметь более одного основоположения, ибо тогда она образовала бы не одну, но несколько наук» [Фихте, 1993, 19]. – Прим. пер.]. «Заслуга Шлейермахера была в том, что он разработал в дополнение к идеалистической философии концепцию богословской энциклопедии, которая решительно утверждала бы характер богословия как положительной науки, таким образом, не требуя от него умозрительного обоснования на основе идеи науки, но с образцовой строгостью придерживаясь задачи формальной энциклопедии, дающей отчет о научности и внут- ренней организации богословия» (Ebeling, 1970, 487). Шлейермахер тем самым отзывался, не в последнюю очередь, на угрозу потери единства богословия, образовавшуюся с XVI и XVII вв. в процессе обособления друг от друга богословских дисциплин (ср. Niemann, 1995, 258 след.; Hell, 1999, 209–213).
Таким образом, можно проследить, как в основном богословии, примерно в середине XIX в. установившемся в качестве самостоятельной дисциплины, оказались связанными между собою различные аспекты и мотивы. Перед лицом нововременной критики религии и христианства не только заострялись и усугублялись вызовы и задачи, стоявшие перед апологетикой, но оказывалось под вопросом само положение богословия как науки, которое теперь нуждалось в новом и более глубоком обосновании. Кроме того, начиналась эрозия внутреннего единства и структуры богословия, что сделало необходимыми его систематизацию и рефлексию над ним. Все эти обстоятельства не были специфически конфессиональными; в ходе развития Нового времени и эпохи Просвещения они возникали одинаково как в католическом, так и в евангелическом богословии, толкая их в направлении одной и той же основополагающей богословской дисциплины, которая работала бы над их разрешением. Впрочем, самостоятельная дисциплина такого рода возникла потом лишь в католической среде, что стало восприниматься как результат особого развития в католицизме. Только в недавнем прошлом евангелическая теология обзавелась эксплицитными концепциями в области основного богословия (ср. ниже с. 100 и далее[31 - В тексте автора присутствуют подобные внутренние сноски на те или иные разделы книги. В настоящем издании мы сочли возможным отказаться от них. – Прим. свящ. Д. Лушникова.]).
Несмотря на то, что основное богословие обязано своим формированием специфическим условиям Нового времени, нельзя не принимать во внимание, что тем самым в совершенно изменившихся условиях была продолжена одна из изначально центральных, если не центральная, интенция христианского богословия: а именно, его апологетическое назначение, запрос на которое восходит к Новому Завету.
II. Апологетическая традиция в богословии
Греческое понятие ???????? относится первоначально к судебному процессу и подразумевает защитительную речь перед судом. В этом смысле оно используется еще в Новом Завете (Лк 12:11; 21:14; Деян 22:1; 24:10; 25:8; 26:1 след.; 2 Тим 4:16). Впоследствии содержание понятия в речевом обиходе расширилось, так что оно стало выражать также доказательную защиту философских или религиозных убеждений, учений и обычаев, а соответственно, и подкрепленный силами разума призыв к их принятию. В античности парадигма для такого значения была задана Платоновой «Апологией Сократа». Но и в Новом Завете смысл слова ???????? иногда приближается к этому (ср. Флп 1:7, 16). Особенно ярко – в 1 Пет 3:15, где сказано: «Будьте готовы всегда ???? ????????? перед всяким взыскивающим с вас ????? о вашем уповании». Это место нередко представляется как «Великая хартия»[32 - «Magna Charta». Подразумевается «Великая хартия вольностей», закреп- лявшая ряд прав свободного населения Англии в 1215 г. Здесь: в значении документа-источника. – Прим. пер.] для основного богословия.
Призыв 1 Пет 3:15 позволяет выделить пять важнейших аспектов (Ritt, 2000; Seckler, 2000a, 353–356; Verweyen, 2000a, 37 след.; Waldenfels, 2000, 82).
1) Он относится ко всем христианам, а не только к группе «специалистов». Если теология делает задачу, поставленную в этом призыве, своей собственной, то тем самым она, выступая от лица (stellvertretend) всех христиан, принимает на себя нечто существенное для христианской веры.
2) Апология должна быть предоставлена каждому, кто ее требует. Согласно 1 Пет 3:15, христианская вера без ограничений «апологообязана».
3) В этой апологии речь идет об уповании христиан, то есть о том, чего они, как верующие, ожидают или чают. Иными словами – о смысле и цели существования.
4) Призыв 1 Пет 3:15 заключает в себе уверенность в том, что христианская вера способна к апологии, и усилию в данном направлении будет сопутствовать успех. Эта уверенность основывается на логосности христианского упования, т. е. его согласии с разумом: «Оно логосно в себе самом и», к тому же, «открыто для своего логосного развития при помощи разума» (Seckler, 2000a, 355), даже перед неверующими.
5) Таким образом, ???????? также означает – давать отчет об этой разумности христианского упования, а вместе с тем о содержащих это упование христианских верованиях, о связанном с ними христианском образе жизни.
1. В Древней Церкви
Такую задачу поставили перед собой христианские богословы. Развивавшиеся в связи с ней апологии христианства не следовали какой-либо твердой схеме, но были в значительной мере обусловлены конкретными поводами и обстоятельствами (ср. обзоры: Barnard, 1978; Geerlings, 2000; и в особенности Fiedrowicz, 2000). Эта раннехристианская апологетика нашла себе некий прообраз в иудейских усилиях защитить свою веру, которые в начале новой эры получили воплощение прежде всего в трудах Филона Александрийского и Флавия Иосифа (Fiedrowicz, 2000, 29 след.). Оба они старались отразить критику и обвинения, выдвигавшиеся в эллинистической среде против иудейства (например, обвинение в отсутствии политической лояльности или в атеизме из-за отказа от участия в государственном культе). Высокая оценка, полученная ими в христианских кругах, явствует из того, что труды обоих иудейских апологетов были сохранены именно христианами.
Возникновение специфически христианской апологетики было связано с выходом христианской общины из иудейства. Только после этого христиане могли быть восприняты как религиозная группа наряду с иудейством; до этого они казались не более чем движением внутри него. Следствием такого шага стало жесткое полемическое размежевание с иудейством. Пример тому представляет, например, Послание Варнавы (ок. 130), согласно которому Бог заключил завет с одними христианами, в то время как иудеи отвергли предложенный им завет своей греховностью (Варн 4:6–8; 14). Христианская литература против иудеев (adversus Judaeos) берет свое начало уже в том раннем времени (Barnard, 1978, 394–398; Lange, 1978, 134 след.; Schreckenberg, 1990, 179 и далее); в частности, сохранилось сочинение Ипполита Римского под таким названием. В связи с этим апологетические устремления в христианстве кажутся скомпрометированными частичным содействием развитию христианского антииудаизма.
Следующим значительным поводом для появления христианской апологетики стало неправильное понимание христианской веры, а также доносы и гонения на христиан. Они возникали частью в связи с их образом жизни – особенно с их отношением к официальному государственному культу, – частью же в связи с христианским богослужением. Так, христиан обвиняли в том, что на их богослужебных собраниях практикуются каннибализм, инцест и детоубийство. Это должно было отталкивать от них, так же как их неучастие в народных представлениях и увеселениях. Но более всего раздражал отказ христиан приносить жертвы узаконенным богам и чтить императорские изображения. Так же как в иудеях, в них видели «атеистов» – обвинение, политически чреватое в связи с тем, что старые римские боги выступали гарантами политической устойчивости и всеобщего благосостояния. Поведение христиан ставило их под подозрение в отсутствии политической лояльности и даже во враждебности государству. Христианство казалось не просто чуждым и сомнительным культом, но опасной политической угрозой. Это подозрение усиливалось ввиду строгого монотеизма христиан, который делал невозможным включение христианского Бога в римский пантеон как одного из принципиально равноправных божеств.
Поскольку следствием этих обвинений были враждебность и гонения, христианские апологеты пытались ослабить и отклонить их. Они писали жалобы Кесарю[33 - Нем. Kaiser, зд. – римский император. – Прим. пер.], чтобы добиться признания христианства и законной защиты. Для этого требовалось не только устранить непонимание и ложь относительно христианства. Христианские апологеты должны были показать, что их вера и соответствующая ей жизненная практика соответствуют самым взыскательным нравственным запросам и наиболее возвышенным философским взглядам. Таким образом, требовалось недвусмысленное обращение к философии, чтобы доказать, что христианство находится в согласии с ее познаниями и ни в коей мере не может расцениваться как нечто противоразумное.
Особенно мощный пример подал Иустин († ок. 165). Чтобы добиться общественного признания для христианства, он обратился с гражданско-правовой петицией к Кесарю. Он отверг обвинение в атеизме, подчеркнул лояльность христиан государству и рассеял предубеждение относительно их богослужебной практики. Все это Иустин связал с основательной апологией христианства, в которой он явственно выступил от имени философии, как проходивший перед своим обращением в христианство курс философского образования.
Исходной точкой для Иустина была радикальная трансцендентность Бога, как ее представляла, в особенности, платоновская философия. Бог чисто духовен и совершенно отличен от мира. Поэтому Он далеко отстоит и от человека; тот лишь с большим трудом познает Его и составляет понятие о Нем. На этом фоне Иустин определяет Христа как Логос Божий, через Который Бог обращается к человеку и тем становится познаваемым. Христос, как вочеловечившийся Логос Божий, преодолел казавшуюся дотоле непереходимой пропасть между трансцендентностью Бога и миром в его пространственности и материальности.
Но этот вочеловечившийся в Иисусе из Назарета Логос Божий (Ин 1:14) еще до Своего вочеловечения действовал в творении как «семенной логос»[34 - «????? ???????????» (греч.) – восходящая к Гераклиту, но преимущественно стоическая концепция присутствия повсюду в мире отпечатлений мирового разума (логоса), перенятая христианскими апологетами во II в. в связи с ее созвучием 1-й главе Евангелия от Иоанна. – Прим. пер.] (2-я Апология, 8.3; 13.3), т. е. как логос, высеивающий семена истины. Так, Он, с одной стороны, соприсутствовал Моисею и пророкам, посредникам ветхозаветного откровения, с другой – разбрасывал семена истины в человеческом разуме. Деятельность, которую приписывает Ему в связи с этим Иустин, состояла в том, чтобы сдерживать демонические влияния на человека, тем самым освобождавшегося от своих иррациональных страстей и восстанавливавшегося в своей истинной разумности. Таким образом, человеческий разум заслуживает доверия, потому что Божественный Логос всегда стоит на его стороне. Это позволяет Иустину рассматривать некоторых философов, особенно Сократа, как философов «христианских», как «христиан до Христа», развенчивавших демонические наваждения и посвящавших себя поиску истинного Бога.
Но своей безусловной вершины эта деятельность Логоса достигла в Его вочеловечении; как вочеловечившийся, Он смог непосредственно говорить к людям и, таким образом, сделать Божественную истину в высшей степени познаваемой. В связи с этим Иустин говорит о христианстве как об «истинной философии» (Диалог с Трифоном Иудеем, 1–8), ведь знание Божественной истины, к которому философия стремится, впервые было действительно достигнуто в христианской вере. «Учение христианское истинно не потому, что оно совпадает с истиной, достигнутой в философиях, а также сохраняет ее в себе, но потому что оно есть полный образ той истины, осколки которой сохранялись в философиях» (Honnefelder, 1992, 63).
С такой концепцией логосного богословия Иустин ставит христианскую веру в положительное отношение к до- и внехристианской философии, в котором «ясное видение того, что является особенным в христианстве, сочетается со способностью отыскать элементы истины в греческой философии и поэзии, которые делают христианское послание воспринимаемым как аутентичное послание Логоса» (Fiedrowicz, 2000, 43). Здесь скрывается огромное притязание – христианство обладает единственной, универсальной истиной, которая может быть также осознана как истина разума.
Так была намечена главная линия христианской апологетики. Это стало понятно тогда, когда с III в. начала образовываться ее новая форма (Fiedrowicz, 2000, 49 след.). Она была вызвана уже не прямыми гонениями, а литературными нападками языческих философов. Их враждебные действия порождали неуверенность в самом христианском сообществе, что сделало желательным полемическое противостояние их писаниям. Прототипом этой новой формы апологетики стал составленный около 246 г. труд Оригена (ок. 185–254) «Против Цельса» (Barnard, 1978, 392–394; Fiedrowicz, 2000, 50–52; 65–67; Reemts, 1998; Verweyen, 2005, 144–149). Ориген обращался в нем к христианам, которые были введены в сомнения появившимся примерно за 70 лет до этого критическим по отношению к христианству сочинением Цельса. Последний ставил под вопрос не только достоверность библейского предания. Возможно, принимая вызов апологии христианства Иустина, Цельс оспаривал саму возможность соединения христианской веры с философской мудростью; он обвинял христиан в необразованности и легковерии, из-за которых они придерживаются иррациональных верований. К этому он прибавлял традиционное обвинение в том, что из-за отречения от традиционной религии в пользу христианства основания общества и государства оказались порушены. Очевидно, эти выпады Цельса и десятилетия спустя вызывали среди христиан смущение и сомнения в вере, так как они все еще не находили достойного возражения.
В своем ответе – «вершине апологетического движения II и III вв.» (Barnard, 1978, 393) – Ориген отстаивал разумность христианства. Как и Иустин, он видел его не только равноценным с учениями философов, но и превосходящим их. Этому не противоречило то, что в действительности среди христиан было много необразованных. Напротив, Ориген усматривал в этом признак большей силы христианского послания как слова Божьего, способного дойти до людей и изменить их, по сравнению с учениями Платона и других философов (Против Цельса, 1.27; 6.2). Если Платон обращался лишь к образованным, то Бог в Своей благости и Своем человеколюбии Сам стал Человеком, чтобы таким образом говорить ко всем людям и суметь подвигнуть их к изменению их жизни (Против Цельса, 7.42, 44). Поэтому Ориген также не мог признать опасным распространение христианства, напротив, он усматривал в нем возможность всеобъемлющего морального изменения сознания. Итак, он решительно возвращал Цельсу назад его требование к христианам служить разным античным богам на том основании, что они принадлежат высшему Богу (Против Цельса, 8.2). Как ранее Иустин, Ориген мог усматривать в этих божествах лишь демонические силы (Против Цельса, 7.69 след.). «Едва ли какое-то другое произведение апологетической литературы позволяет так непосредственно прочувствовать конфронтацию между античностью и христианством, как обширный полемический труд Оригена, который при помощи цитат и возражений на высоком интеллектуальном уровне создает ситуацию разговора между представителями двух культур – старой эллинистической традиции и новой христианской религии» (Fiedrowicz, 2000, 67).
Ориген также руководствовался убеждением, что христианство должно защищать свои притязания на истинность перед лицом философского разума, идеи которого оно продолжает и завершает. Эта главная линия ранней христианской апологетики особенно действенным образом проявила себя еще раз в конце древнецерковной эпохи у блж. Августина (354–430). Его апологетические устремления достигли вершины в монументальном труде «О Граде Божьем», появившемся между 413 и 426 гг. (Knapp, 1993, 295–308). Поводом к его написанию послужило разорение Рима готами в 410 г., и вызванный этим распад Римской Империи. В это время христиане столкнулись с обвинением в том, что причиной случившейся политической катастрофы стало возвышение статуса христианства до государственной религии, одновременно с пренебрежением старыми богами. Казалось, сбылись прозрения Цельса и других языческих интеллектуалов: отказ от традиционной религии разрушил основы государства. Но и многие христиане были ввержены в сомнения, их вера в Божественное провидение поколебалась. Ранее они понимали христианизацию Римской Империи как решительный шаг во всемирном распространении Евангелия перед близким концом света. Против такого отождествления мирской политической власти с Царством Божьим выступил блж. Августин в своем трактате. Он доказывал, что «Град Божий» (Сivitas Dei) не представляет собой какое-либо мирское государственное образование, но создается «любовью к Богу (amor Dei), дошедшей до презрения к себе», в отличие от «града земного» (civitas terrena), который основывается «на любви к себе (amor sui), дошедшей до презрения к Богу» (О Граде Божьем, XIV.28). Таким образом, решающей для осуществления эсхатологического спасения остается устремленность человека к Богу, а не расширение политической или военной власти. Осуществление Града Божьего не просматривается в движении мировой истории.
Августиновская апология христианства была основана, вместе с тем, на предпосылке, согласно которой христианское притязание на истину может быть оправдано перед лицом философского разума. При этом блж. Августин рассматривает платонизм как олицетворение, в некотором смысле, философии, поскольку речь здесь идет о реальности духа. Только там, где философия полностью устремляет свой взгляд на духовное, она может достигнуть Бога, ибо Бог есть чисто духовная действительность[35 - Определение Бога как «действительности» (Wirklichkeit), непривычное для нашего слуха, основывается, прежде всего, на Его характеристике схоластами как actus purus (чистый акт), а также восходит к традиции описания Бога через Его «силу» (virtus). – Прим. пер.]. Итак, блж. Августин усматривает многочисленные совпадения между христианством и платонизмом. Но, несмотря на эту значительную близость, платонизм нуждается в восполнении христианством, чтобы совершенно воспринять Божественную истину. Христос впервые являет эту истину человеку неложным образом и тем открывает для него путь к блаженству. Ибо речь здесь идет о вневременной истине, о вечно-сущей. Эта истина сокрыта от конечного, подверженного постоянным изменениям мира; она, в противоположность ему, радикально трансцендентна. Поэтому человеческое стремление к истине не достигает цели, как показывают сами противоречащие друг другу высказывания философов (Об истинной религии, I. 1). Христос, воплотившееся Слово Божье, впервые открыл людям трансцендентную Божественную истину и повел их к ней. Поэтому вера во Христа, по блж. Августину, составляет необходимое условие для того, чтобы философское стремление к познанию достигло цели. «Вечность относится к становящемуся как истина к вере» (О Троице, IV.18.24)[36 - Блж. Августин здесь неточно цитирует Платона (Тимей 29с) по переводу Цицерона. – Прим. пер.]. Ошибка платонизма, по блж. Августин у, заключается в том, что себе он отказал в этой вере. Ибо это есть «всеобщий, указанный Божественным милосердием путь ко спасению человеческой души» (О граде Божьем, Х. 32).
Таким образом, христианская апологетика в древности была направлена на то, чтобы доказать, что христианство не является религией, сотворенной людьми, подобно римскому государственному культу. Христианство, напротив, должно было быть понято как «истинная религия», поскольку «ее внушает и ей учит своих истинных почитателей истинный Бог» (О граде Божьем, VI.4). Этот религиозный запрос на истину был как применимым по отношению к философии, так и критически обращенным против нее, поскольку речь шла о богооткровенной истине, которая превосходит всю мудрость философии; последняя может лишь готовиться и подводить к ней, но не может самостоятельно ее достигнуть.
«С этой программой, начатой апологетами и окончательно сформулированной Августином, “новое” и “уникальное” в христианской вере могло быть истолковано не только как то, что всегда и для всех необходимо, но и как то, что превосходит все предшествующее и его интегрирует. Вопрос греческой философии о действительности в целом и ее объединяющей причине, утонченные умозрения Божественного бытия, его свойств, его связанных с трансцендентностью и имманентностью отношений к миру представали как предварительные этапы и понятийные средства для христианского учения. Христианское исповедание веры и философское исповедание разума связываются в высшем единстве всеобъемлющей христианской мудрости, в “нашей философии”, по словам Августина, как “истинной философии”» (Honnefelder, 1989, 296).
Вполне программное выражение этот синтез философии с верой в откровение нашел в также восходящей к блж. Августину формуле «credo ut intelligam» («верую, чтобы понимать»). Она не позволяет ошибиться: в этой концепции вера и разум соподчинены друг другу. Вера сама из себя высвобождает стремление к познанию, направленное к углубленному пониманию веры. Этот так называемый у отцов Церкви «разум веры» (intellectus fidei), который «впоследствии приобрел название теологии» (Honnefelder, 1989, 295), обращается, с одной стороны, к философскому разуму, вбирая в себя его идеи, но, с другой стороны, проводя их дальше и доводя до совершенства. Следовательно, вера никоим образом не редуцируется к идеям ума. «Напротив, апологеты обладали ясным сознанием особенности христианства, которую они разрабатывали и приводили в действие вопреки языческой философии и религии. Отличительно христианское заключалось в характере истины веры как откровения» (Fiedrowicz, 2000, 313).
Итак, христианская теология с самого начала имела апологетический характер; можно сказать даже, что апологетический момент дал внутренний импульс появлению христианской тео- логии. Но эта апологетика не была преимущественно оборонительной, закрытой для диалога и окопавшейся в самой себе стратегией правовой защиты. Она уже очень рано приняла характер обращения в веру, миссионерства; стремилась показать, что христианство представляет собой убедительную и достоверную альтернативу религиям, философиям и мировоззрениям античности. В этом она исходила из уверенности, что Евангелие не предназначено для маленькой группы избранных, но должно быть донесено до всех народов (Мф 28:19 след.). Таким образом, христианская апологетика участвовала в связанном с библейским посланием Христа всемирном посланничестве и в высвобожденном им движении. Ее специфика состояла при этом в доказательном раскрытии христианского притязания на истину как универсального. Ради этой цели христианская апологетика связала себя с философией, ибо лишь перед судом философского разума она могла снять с христианской веры «подозрение в децизионистской[37 - Децизионизм (Dezisionismus) – «теория решения», волюнтаристская политическая теория, появление которой связывают с именем Карла Шмидта (1888–1985). Здесь речь идет о решении, предшествующем своему основанию. – Прим. пер.] произвольности и обосновать ее как общую возможность для человеческого существа» (Fiedrowicz, 2000, 228).
Сколь бы впечатляющей ни казалась концепция христианства как истинной философии, она имеет свои четкие границы, которые в конечном итоге делают ее разрушение неизбежным. До тех пор, пока разум не встанет на почву откровения Христова, он, согласно этой концепции, останется ущербным, в некотором смысле уполовиненным. Но этим был «дан повод к борьбе философии за свободу от богословия» (Pannenberg, 1978, 61). Последнее тем более верно, что христианская теология, сознавая себя истинной философией, взяла на себя совершенно неисполнимые притязания «стать всеохватной “наукой обо всем”» (Honnefelder, 1992, 56). Таким образом, этот патристический синтез философии и веры в откровение в конечном счете свидетельствует о недостаточности обеих:
«Философия теряет свою самостоятельность и становится просто переходной стадией, “преддверием” теологии. Трактуя себя как “истинную философию”, теология обессиливает философию, лишает ее ее же специфических возможностей и, тем самым, перегружает саму себя: ей приходится вникнуть в универсальный запрос философского разума и взять на себя всю тяжесть философских вопросов и ответов. Но именно этим она мешает себе должным образом удовлетворить универсальности своего призвания, которое исходит не из ума, а из спасительного деяния Божья. Подразумеваемое универсальностью запросов разума и откровения различие между теологией и философией не может быть осуществлено в рамках этой концепции» (Honnefelder, 1992, 73).
Несмотря на свою неудачу, древнецерковная концепция христианства как истинной философии оказала устойчивое воздействие на дальнейшее развитие христианства. Ранний союз с философией укрепил убежденность в логосности христианской веры и ее сопряженности с универсальным притязанием на истину. Этим, в свою очередь, была заложена основа способности к критической авторефлексии, которая впоследствии всегда помогала христианству в преодолении духовных и общественно-культурных переломов.
2. В Средние века
После того как вследствие поворота, осуществленного Константином, христианство стало преобладающей духовно-культурной силой, прежняя апологетика в значительной степени потеряла свое значение. Правда, как и раньше, продолжались апологетические споры с иудаизмом и позднее также с исламом. Но по-настоящему новым вызовом стала начавшаяся в IX–X вв. сциентизация мысли, сопровождавшаяся стремлением к рациональности в различных областях знания, таких как медицина и право (Honnefelder, 1989, 298). В богословии это стремление к научному рационализму проявилось наиболее настойчиво и последовательно у Ансельма Кентерберийского (1033–1109).
Ансельм непосредственно находился в Августиновской традиции «верую чтобы понимать» (credo ut intelligam). Но также он исходил из предзаданности веры. Об этом говорит его ставшая лейтмотивом формула «вера, стремящаяся к пониманию» (fides quaerens intellectum), первоначально задуманная как название для «Прослогиона». Ансельм основывался на том, что вера инициирует стремление к познанию, чтобы прийти к более глубокому пониманию себя самой (intellectus fidei) и постичь свою собственную разумность (ratio fidei). Это достигается тогда, когда вера познает свое собственное основание и утверждается в истине того, во что верует. Новое у Ансельма состоит в том, что он осмысляет программу «веры, ищущей (более глубокого) понимания» подробнее и точнее с методической точки зрения, чем это делалось до него (Kienzler, 1981; Dalferth, 1992; Christe, 1985; Larcher, 2000, 233–235; Verweyen, 2006b).
Вера, по Ансельму, есть дар Божий; человек не в состоянии сам ее достигнуть. Отсюда исходят следствия для осознания истины веры – насколько маловероятно, что человек может самостоятельно прийти к вере, настолько же малове-роятно то, что он может сам по себе осознать ее истину. Осознание это в большей степени основано, по убеждению монаха-бенедиктинца Ансельма, на созерцательном сосредоточении в Боге (Dalferth, 1992, 59). Соответственно этому «Прослогион» помещен в ситуацию молитвы. Уже из его внешней формы понятно – разум веры может быть достигнут лишь тогда, когда познающий субъект позволяет себе ощутить присутствие Бога, предмета познания, чтобы самому испытать истину Божию. Однако эта истина должна затем раскрываться и при помощи аргументации. «Ибо, насколько несомненно, что разум веры (intellectus fidei) как осознание истины есть всецело дар Божий, результат Божественного просвещения (illuminatio), так несомненно и то, что как осознание истины он есть результат достигнутой только разумом (sola ratione) способности человека понимать (intelligere)» (Dalferth, 1992, 61). При этом для Ансельма «только разумом» (sola ratione) означает, что в строении такой аргументации ничто не может быть основано на авторитете Писания. Только тогда возникает мысленный взгляд на разумность веры, когда мысль развивается под собственную ответственность и только себя саму имея своим условием, т. е. следует лишь своему разуму.
Наиболее четко Ансельм сформулировал эту методологическую программу в предисловии к своему труду «Почему Бог стал человеком» (Cur Deus homo): «Умалчивая о Христе (remoto Christi), будто Его и вовсе никогда не было, [эта книга] убедительными рассуждениями (rationibus necessariis) доказывает (probat), что без Него человек не смог бы спастись». Речь идет об обосновании «матрицы смысла» (Verweyen, 2000a, 217), которая лежит в основе откровения Христа и, тем самым, христианской веры. Это обоснование должно быть достигнуто без предпосылок веры, в чисто философском порядке доказательства, т. е. посредством аргументов, необходимых в смысле строго логическом, а значит, обязательных и неопровержимых. Это никоим образом не делает принятие веры избыточным, ибо послание христианского откровения может первоначально раскрыться как истинное только в вере, а для Ансельма это значит – в молитвенно-созерцательном сосредоточении в Боге, поскольку вера первоначально «верифицируется в благодатном Божественном просвещении (illuminatio)» (Dalferth, 1992, 61). Молитва и доказательство не являются для Ансельма взаимоисключающими альтернативами, но дополняют друг друга. Достигнутым исключительно посредством разума (sola ratione) доказательством осмысленности христианского откровения обеспечивается разумность веры. Это, во-первых, принимающему веру позволяет подготовиться к ответу перед разумом; во-вторых, открывает доступ к более глубокому пониманию веры; наконец, в-третьих, делает веру рационально объяснимой неверующим и тем самым приглашает их к тому, чтобы самостоятельно испытать послание откровения как истинное уже в их собственной вере.
Данный концепт Ансельма покоится на одном существенном допущении – в традиции блж. Августина (О граде Божьем, XI.26) Ансельм исходит из того, что дух человеческий представляет собой образ триединого Бога. Бог так начертал Себя на духе человеческом, чтобы даже в мысли, живущей исключительно посредством разума (sola ratione), смысловой строй истин веры мог быть воссоздан и постигнут. Даже скептик и глупец не могут закрыться от этого, если только они используют разум надлежащим образом. Таким образом, Ансельм мыслит это не так, как в Новое время судили об основанном на самом себе разуме. «В горизонте идеи образа автономия “sola ratione” может быть основана только на предшествующей гетерономии[38 - Гетерономия (от греч. ?????? другой и ????? закон) – философский термин, означающий управляемость объекта или системы по законам, имеющим стороннее происхождение (антоним: автономия). – Прим. пер.] относительно Бога, где одна другую не снимает, а скорее высвобождает» (Christe, 1985, 370). Духовная метафизическая предпосылка, обосновывающая оптимизм Ансельма, состоит в том, что разум с присущей ему принудительностью (rationes necessariae) может распознать Бога и Его спасение как соответствующие себе самому.
Ансельм, тем самым, ступил на путь к методологически самостоятельному философскому мышлению. У него возымело действие то стремление к рациональности, которое охватывало тогда все области знания. Таким образом Ансельм принял участие в разрушении концепции, согласно которой само по себе христианство и есть истинная философия. Однако для него разум веры (intellectus fidei) и философское мышление, по крайней мере, оставались переплетенными друг с другом постольку, поскольку разум воспринимался как теологически квалифицированный разум. Здесь рациональное обоснование веры находило у Ансельма принципиальное условие своей возможности.