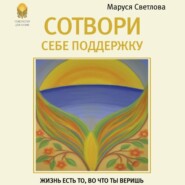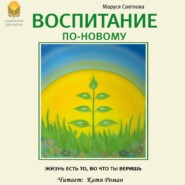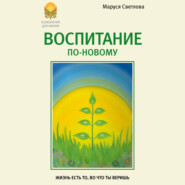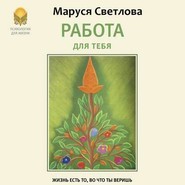По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Женщина из клетки (сборник)
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но уголовник этот объятия не размыкал, прижимал ее к себе плотнее и сказал уже как-то по-другому:
– Хорошая ты баба, Надюша, ой, хорошая… Только замороженная немного… Но ничего, я тебя разморожу… Я тебя всю разглажу… Всю тебя заласкаю… Всю тебя…
И она, как бы боясь слова, которое он должен сказать, сама вырвалась из его рук и сказала только то, что придумалось, только чтобы сказать что-то…
– Погода сегодня хорошая…
– Погода – высший класс! – как-то радостно, даже восторженно сказал Павел, и она опять удивилась его радости. Казалось, эта радость просто жила в нем, и все, что он видел, что его окружало, вызывало в нем радость. И опять подумала она как-то тревожно – насиделся, небось, по свободе натосковался, вот и радуется всему, как ненормальный.
А он опять подошел и обнял ее как-то уже по-отцовски и в глаза заглянул, и сказал неожиданное:
– Ты, наверное, в себя прийти не можешь… Все у нас – так быстро… – И добавил: – Я сам, как встал, понять не мог – было у нас чего или не было… И так чудно это, что все было…
И ее поразила его интонация и то, что для него это все тоже странно. И как-то успокоило это ее. Успокоило, потому что раз так, – не подлец он какой-то, не маньяк, не развратник. А вот тоже – вляпался.
И он, как будто почувствовав все ее мысли и сомнения, сказал убежденно, как клятву произнес:
– Надюш, ты не переживай, на все – воля Божья. Все мы под Богом ходим, и ему там, – он показал на небо, – виднее, кого с кем знакомить, кого с кем соединять. Значит, судьба нам с тобой было познакомиться, судьба – вместе ночь провести…
И она, успокоенная вдруг этими словами, но еще не решившая, что делать, сказала, чтобы прервать все эти разговоры и увести его из комнаты, туда, на люди:
– Я на рынок хотела сходить… Фруктов хочется… Овощей. А то в столовой у нас все каши да вермишель…
– Так пойдем, – с радостной готовностью сказал Павел. – Пойдем, я тебе помогу купить что получше, а то тут тебе такого впендюрят, и цену в два раза завысят, по тебе же видно, что ты отдыхающая и торговаться не умеешь.
– Я – не умею? – возмутилась почему-то она, возмутилась, как будто что-то обидное он сказал.
– Ты, ты, кошечка моя, – подтвердил он, и в глазах его опять появились смешинки. – Ты женщина воспитанная, правильная, тебе торговаться – западло, это – неприлично. Поэтому такие культурные, как ты, и покупают самое большое дерьмо…
И она поразилась его словам. Даже не грубости его, не этим ужасным выражениям. А тому, что правду он сказал. Правду. Потому что сколько раз замечала она на рынке, как подсовывают ей какую-то клубнику раскисшую, или лук сырой, или картошку полусгнившую. И всегда неловко ей было обращать на это внимание. И среди нескольких купленных пучков редиски один всегда оказывался маленький, тощий какой-то. Так и не научилась она перебирать, торговаться, права качать. Что давали – то и брала. И «спасибо» при этом говорила, как хорошо воспитанная женщина.
А вот он… Она посмотрела на него, на разворот плеч, скулы, шрам на скуле – и подумала: такого не обманешь, такому не впендюришь – что похуже. И сама удивилась, как легко она это слово повторила. И еще подумала: «Господи, вот и началось. Точно – с кем поведешься, от того и наберешься…»
…Рынок встретил их гулом голосов и яркими какими-то, экзотически смотревшимися грудами овощей и фруктов, И она – растерялась от этого масштаба красок, цен, предложений. Она растерялась, а он и тут был как дома. С кем-то здоровался и жал руку, кому-то кивал, узнавая, или махал рукой. Громким каким-то голосом, не стесняясь, говорил:
– Почем черешня, хозяйка?
И гоготал, когда слышал цену, гоготал, как будто что-то смешное ему сказали. И говорил заговорщицки, наклоняясь к хозяйке:
– За такие деньги, кроме черешни, еще кой-чего нужно в нагрузку давать…
– Счас прям, тебе только давать… – гоготала в ответ «хозяйка», и он тоже смеялся, радостно гоготал:
– Конечно, нам, мужикам, только и нужно, что – давать…
И она, шокированная, оглушенная гоготом этим и словами этими, неприкрытым, неприличным заигрыванием, вдруг испугалась опять. Испугалась оттого, что поняла – да он ведь бабник.
И потрясенная этой мыслью, остановилась, потому что с ужасом вдруг осознала: да у него этих женщин тьма. Он их десятками снимает…
И мысль эта вдруг не просто окатила ее холодной водой. Ей показалось вдруг, что она на секунду просто умерла от этой мысли, потому что только тут она подумала: «Господи, да я ведь могла от него заразиться чем-то! Господи, да я же могла от него заболеть… Господи… Господи… Господи…»
И от ужаса этой мысли, стала она читать про себя молитву, нервную какую-то, бестолковую: «Господи, спаси и сохрани! Господи, милостивый, не дай мне заболеть! Господи, милостивый, спаси и сохрани! Господи, огради!.. Огради, Господи…»
И он, заметив ее какую-то отстраненность, обнял ее рукой за плечи, прижал к себе и сказал заботливо:
– Ты чего, Надюш?.. Чего загрустила?..
И она посмотрела на него, как на чудовище, и дернулась было из его рук, но он, как будто догадавшись, что мысли у нее плохие, опасные, – только крепче прижал ее к себе. И она трепыхнулась еще раз и с ненавистью какой-то посмотрела на него, краснея оттого, что чужой здоровенный мужик обнимает ее на глазах у всего рынка.
И сказала:
– Пусти меня… Отпусти…
– Ни за что – ответил он тихо. И повторил для убедительности: – Ни за что… – И, держа ее крепко в руках, как бы показывая силу своего решения, добавил: – Я тебя нашел – и уже не отпущу…
И у нее от отчаяния какого-то, от бессилия собственного даже плечи в его руках поникли, как будто воздух весь из нее выпустили. Только головой она замотала в ответ на его слова, как будто прогоняя их. А он, глядя на нее как-то настойчиво, проникая в глубину ее глаз, сказал проникновенно:
– Я понимаю, непривычно тебе все это. Ты женщина хорошая. Приличная… Боишься ты, подвоха какого-то ждешь… Но – подлецом я никогда не был. Сидеть сидел, не отрицаю… Но подлецом – никогда…
И, взяв ее за плечи, отступил на шаг, как бы давая ей свободу, не сказал – запел, неожиданно для нее:
– Не надо печалиться… Вся жизнь впереди…
И тепло как-то, осторожно, взял ее лицо в свои руки и, глядя ей в глаза, сказал убежденно:
– Относись к жизни проще, Надь. Что случилось, то случилось. Чему быть, того не миновать… И – не грусти, Надь. Не грусти… – сказал он уже совсем другим, каким-то радостным тоном. – Грустить – это последнее дело, Надюш… Я это точно знаю… Никогда не надо сопли распускать. Всегда надо верить, что все будет хорошо…
И почему-то слова эти вдруг успокоили ее. И интонация. И даже не шокировало ее грубое его «сопли распускать». Что-то было в его словах или взгляде хорошее, надежное, и забылись вдруг в одну минуту все страшные мысли…
И подумалось ей как-то вскользь, легко: «Сейчас все лечится…» И – добавила она самой себе: «Все будет хорошо… Все будет хорошо…»
И подумала – на все Божья воля. Даст Бог, освобожусь я от него…
И пошла уже рядом с ним по рынку спокойная. И только головой качала, видя, как торгуется он, как выбирает лучшие, крепкие помидоры, как – отсеивает мелкие ягоды клубники, как с какой-то купеческой щедростью кладет на весы огромную гроздь винограда, берет с подноса толстую связку чурчхеллы. И только деньги отдавал он, доставая смятые бумажки из кармана брюк.
– Куда столько?.. Не надо так много… – говорила она иногда.
Но он только улыбался в ответ, привлекал ее к себе и шептал заговорщицким тоном ей прямо в ухо:
– Деньги – мусор, Надя… Деньги – шелуха… Никогда денег не жалей, слышь, никогда… Жалеть деньги – последнее дело… Есть деньги – трать… Радуйся жизни… – И повторил: – Ра-дуйся… Потому что в этом весь смысл жизни. А деньги – появятся деньги, куда они денутся… Бог даст, появятся…
И опять поражалась она правильности его слов. И тому, как легко он обо всем говорил. И опять подумала она: «Он везде – хозяин. А я – так, скромная гостья…»
И посмотрела на него с уважением. И с опаской. Потому что – другой он какой-то был. Другой.
И подумала тоскливо, что он вообще всю ее жизнь скомкал – уже скомкал. И – следа не осталось от ее правильной и простроенной жизни. Потому что – как только появился он – забыла она и о расписании, и о салфетках, и о Тургеневе.
И подумала опять – нужно как-то от него отвязаться. И тут же сама себе сказала – отвяжешься от него, как же. И подумала с отчаянием, обращаясь туда, в небо:
– Хорошая ты баба, Надюша, ой, хорошая… Только замороженная немного… Но ничего, я тебя разморожу… Я тебя всю разглажу… Всю тебя заласкаю… Всю тебя…
И она, как бы боясь слова, которое он должен сказать, сама вырвалась из его рук и сказала только то, что придумалось, только чтобы сказать что-то…
– Погода сегодня хорошая…
– Погода – высший класс! – как-то радостно, даже восторженно сказал Павел, и она опять удивилась его радости. Казалось, эта радость просто жила в нем, и все, что он видел, что его окружало, вызывало в нем радость. И опять подумала она как-то тревожно – насиделся, небось, по свободе натосковался, вот и радуется всему, как ненормальный.
А он опять подошел и обнял ее как-то уже по-отцовски и в глаза заглянул, и сказал неожиданное:
– Ты, наверное, в себя прийти не можешь… Все у нас – так быстро… – И добавил: – Я сам, как встал, понять не мог – было у нас чего или не было… И так чудно это, что все было…
И ее поразила его интонация и то, что для него это все тоже странно. И как-то успокоило это ее. Успокоило, потому что раз так, – не подлец он какой-то, не маньяк, не развратник. А вот тоже – вляпался.
И он, как будто почувствовав все ее мысли и сомнения, сказал убежденно, как клятву произнес:
– Надюш, ты не переживай, на все – воля Божья. Все мы под Богом ходим, и ему там, – он показал на небо, – виднее, кого с кем знакомить, кого с кем соединять. Значит, судьба нам с тобой было познакомиться, судьба – вместе ночь провести…
И она, успокоенная вдруг этими словами, но еще не решившая, что делать, сказала, чтобы прервать все эти разговоры и увести его из комнаты, туда, на люди:
– Я на рынок хотела сходить… Фруктов хочется… Овощей. А то в столовой у нас все каши да вермишель…
– Так пойдем, – с радостной готовностью сказал Павел. – Пойдем, я тебе помогу купить что получше, а то тут тебе такого впендюрят, и цену в два раза завысят, по тебе же видно, что ты отдыхающая и торговаться не умеешь.
– Я – не умею? – возмутилась почему-то она, возмутилась, как будто что-то обидное он сказал.
– Ты, ты, кошечка моя, – подтвердил он, и в глазах его опять появились смешинки. – Ты женщина воспитанная, правильная, тебе торговаться – западло, это – неприлично. Поэтому такие культурные, как ты, и покупают самое большое дерьмо…
И она поразилась его словам. Даже не грубости его, не этим ужасным выражениям. А тому, что правду он сказал. Правду. Потому что сколько раз замечала она на рынке, как подсовывают ей какую-то клубнику раскисшую, или лук сырой, или картошку полусгнившую. И всегда неловко ей было обращать на это внимание. И среди нескольких купленных пучков редиски один всегда оказывался маленький, тощий какой-то. Так и не научилась она перебирать, торговаться, права качать. Что давали – то и брала. И «спасибо» при этом говорила, как хорошо воспитанная женщина.
А вот он… Она посмотрела на него, на разворот плеч, скулы, шрам на скуле – и подумала: такого не обманешь, такому не впендюришь – что похуже. И сама удивилась, как легко она это слово повторила. И еще подумала: «Господи, вот и началось. Точно – с кем поведешься, от того и наберешься…»
…Рынок встретил их гулом голосов и яркими какими-то, экзотически смотревшимися грудами овощей и фруктов, И она – растерялась от этого масштаба красок, цен, предложений. Она растерялась, а он и тут был как дома. С кем-то здоровался и жал руку, кому-то кивал, узнавая, или махал рукой. Громким каким-то голосом, не стесняясь, говорил:
– Почем черешня, хозяйка?
И гоготал, когда слышал цену, гоготал, как будто что-то смешное ему сказали. И говорил заговорщицки, наклоняясь к хозяйке:
– За такие деньги, кроме черешни, еще кой-чего нужно в нагрузку давать…
– Счас прям, тебе только давать… – гоготала в ответ «хозяйка», и он тоже смеялся, радостно гоготал:
– Конечно, нам, мужикам, только и нужно, что – давать…
И она, шокированная, оглушенная гоготом этим и словами этими, неприкрытым, неприличным заигрыванием, вдруг испугалась опять. Испугалась оттого, что поняла – да он ведь бабник.
И потрясенная этой мыслью, остановилась, потому что с ужасом вдруг осознала: да у него этих женщин тьма. Он их десятками снимает…
И мысль эта вдруг не просто окатила ее холодной водой. Ей показалось вдруг, что она на секунду просто умерла от этой мысли, потому что только тут она подумала: «Господи, да я ведь могла от него заразиться чем-то! Господи, да я же могла от него заболеть… Господи… Господи… Господи…»
И от ужаса этой мысли, стала она читать про себя молитву, нервную какую-то, бестолковую: «Господи, спаси и сохрани! Господи, милостивый, не дай мне заболеть! Господи, милостивый, спаси и сохрани! Господи, огради!.. Огради, Господи…»
И он, заметив ее какую-то отстраненность, обнял ее рукой за плечи, прижал к себе и сказал заботливо:
– Ты чего, Надюш?.. Чего загрустила?..
И она посмотрела на него, как на чудовище, и дернулась было из его рук, но он, как будто догадавшись, что мысли у нее плохие, опасные, – только крепче прижал ее к себе. И она трепыхнулась еще раз и с ненавистью какой-то посмотрела на него, краснея оттого, что чужой здоровенный мужик обнимает ее на глазах у всего рынка.
И сказала:
– Пусти меня… Отпусти…
– Ни за что – ответил он тихо. И повторил для убедительности: – Ни за что… – И, держа ее крепко в руках, как бы показывая силу своего решения, добавил: – Я тебя нашел – и уже не отпущу…
И у нее от отчаяния какого-то, от бессилия собственного даже плечи в его руках поникли, как будто воздух весь из нее выпустили. Только головой она замотала в ответ на его слова, как будто прогоняя их. А он, глядя на нее как-то настойчиво, проникая в глубину ее глаз, сказал проникновенно:
– Я понимаю, непривычно тебе все это. Ты женщина хорошая. Приличная… Боишься ты, подвоха какого-то ждешь… Но – подлецом я никогда не был. Сидеть сидел, не отрицаю… Но подлецом – никогда…
И, взяв ее за плечи, отступил на шаг, как бы давая ей свободу, не сказал – запел, неожиданно для нее:
– Не надо печалиться… Вся жизнь впереди…
И тепло как-то, осторожно, взял ее лицо в свои руки и, глядя ей в глаза, сказал убежденно:
– Относись к жизни проще, Надь. Что случилось, то случилось. Чему быть, того не миновать… И – не грусти, Надь. Не грусти… – сказал он уже совсем другим, каким-то радостным тоном. – Грустить – это последнее дело, Надюш… Я это точно знаю… Никогда не надо сопли распускать. Всегда надо верить, что все будет хорошо…
И почему-то слова эти вдруг успокоили ее. И интонация. И даже не шокировало ее грубое его «сопли распускать». Что-то было в его словах или взгляде хорошее, надежное, и забылись вдруг в одну минуту все страшные мысли…
И подумалось ей как-то вскользь, легко: «Сейчас все лечится…» И – добавила она самой себе: «Все будет хорошо… Все будет хорошо…»
И подумала – на все Божья воля. Даст Бог, освобожусь я от него…
И пошла уже рядом с ним по рынку спокойная. И только головой качала, видя, как торгуется он, как выбирает лучшие, крепкие помидоры, как – отсеивает мелкие ягоды клубники, как с какой-то купеческой щедростью кладет на весы огромную гроздь винограда, берет с подноса толстую связку чурчхеллы. И только деньги отдавал он, доставая смятые бумажки из кармана брюк.
– Куда столько?.. Не надо так много… – говорила она иногда.
Но он только улыбался в ответ, привлекал ее к себе и шептал заговорщицким тоном ей прямо в ухо:
– Деньги – мусор, Надя… Деньги – шелуха… Никогда денег не жалей, слышь, никогда… Жалеть деньги – последнее дело… Есть деньги – трать… Радуйся жизни… – И повторил: – Ра-дуйся… Потому что в этом весь смысл жизни. А деньги – появятся деньги, куда они денутся… Бог даст, появятся…
И опять поражалась она правильности его слов. И тому, как легко он обо всем говорил. И опять подумала она: «Он везде – хозяин. А я – так, скромная гостья…»
И посмотрела на него с уважением. И с опаской. Потому что – другой он какой-то был. Другой.
И подумала тоскливо, что он вообще всю ее жизнь скомкал – уже скомкал. И – следа не осталось от ее правильной и простроенной жизни. Потому что – как только появился он – забыла она и о расписании, и о салфетках, и о Тургеневе.
И подумала опять – нужно как-то от него отвязаться. И тут же сама себе сказала – отвяжешься от него, как же. И подумала с отчаянием, обращаясь туда, в небо: