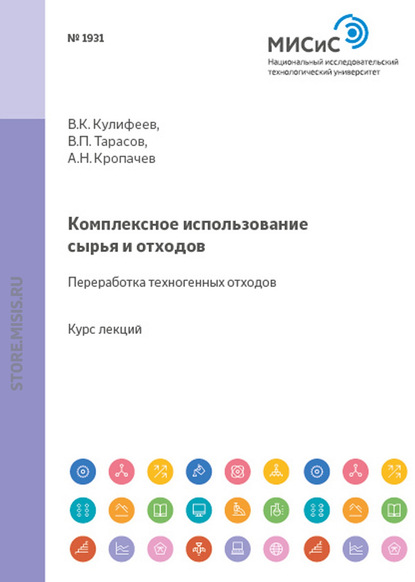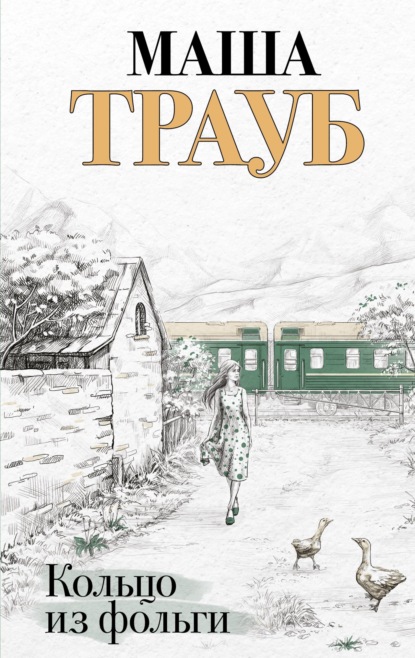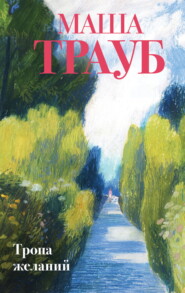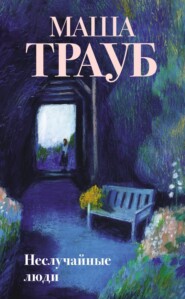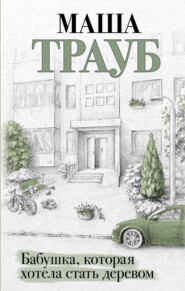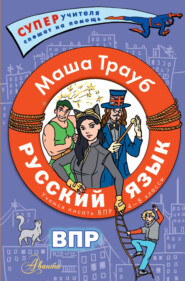По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кольцо из фольги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бабушка тяжело вздохнула и принялась выхаживать щенка. Она назвала его Маресьев – у него были перебиты задние лапки. Видимо, попал под машину.
Кутенок скулил по ночам. Бабушкино сердце не выдержало, и она забрала его в кровать, где Ночка выдала ему сосок. Маресьев считал себя котенком, научился быстро передвигаться, используя только передние лапы. Он играл с котятами, пытался не гавкать, а мяукать, и ему это почти удавалось. Когда Маресьев немного подрос, Мухтар начал выводить его на дежурства. Щенок радостно мяукал, труся за Мухтаром. На ночь они возвращались в бабушкин дом. Ночка шипела на Мухтара, видимо, интересуясь, куда тот опять погнал ребенка. Он что-то жалостливо брехал в ответ. Маресьев ластился к кошке, а та его вылизывала и приводила к бабушке – на поздний ужин. Бабушка закатывала глаза и хохотала. Нормальная семья.
* * *
В прошлой квартире нужно было обязательно мыть подъезд, все этажи, лестничные пролеты. Но не каждый день. Мыли по очереди все жильцы дома, точнее, младшие девочки или девушки из каждой семьи. Повинность, ставшая традицией. Обувь, выставленную за порог квартиры, не только своей, но и чужой, тоже требовалось тщательно помыть. Иногда набиралось пар десять, не меньше. И каждую – отскобли от налипшей и застывшей глины, отмой в грязном тазу, потом промой в тазу с чистой водой. Каждый день. К бабушке часто приходили люди, и их обувь я тоже должна была отмыть. Если кто-то из нас, девочек, пропускал уроки в музыкальной школе, опаздывал на репетицию в ансамбле народного танца, нужно было сказать: «Мыла обувь». Это считалось уважительной причиной для прогула или опоздания.
Что меня поражало по возвращении в Москву? Здесь девочки не мыли ни свою, ни уж тем более чужую обувь. В этом не было необходимости. Туфли оставались чистыми. Я смотрела на свои сандалии и удивлялась – проходила целый день, а на них нет налипшей грязи. И никому в голову не приходило отругать меня за плохо вымытую обувь.
Как-то уже в московской школе я опоздала на урок. И когда учительница потребовала объяснений, я ответила, как было принято в деревне: «Мыла обувь». Учительница не знала, как реагировать. Мои одноклассники хохотали и потом долго дразнили, предлагая помыть им обувь. Я плакала и не понимала, что сказала не так.
В Москве никто не оставлял обувь за порогом, в коридоре. Только дядя Коля – сосед, живший двумя этажами ниже. Он выставлял ботинки рядом с дверью, выходил в коридор и с помощью каких-то красок из многочисленных банок натирал до блеска ботинки. Занимался этим часами, явно с удовольствием. Я могла поклясться, что увижу собственное отражение в его ботинке. Когда после жизни в селе я впервые увидела, как дядя Коля сам чистит обувь, чуть в обморок от ужаса не упала. Решила, что ему грозит несмываемый позор, и предложила свою помощь. Он удивился не меньше меня. Я думала, что у соседа нет жены или дочери, которые могут взять на себя эту повинность, и жалела его всем сердцем. Но оказалось, у соседа имелись и супруга, и даже две дочери. Дядя Коля был военным, привык чистить обувь, да и сам процесс ему нравился. Как он говорил: «Приводил мысли в порядок». В тот момент я этого не поняла, а сейчас – очень даже. Если нужно переключиться, займи руки. Неважно, что делать: вязать, шить, красить, готовить.
Но тогда получилось совсем смешно. Я из лучших побуждений, чтобы о дяди-Колином позоре не узнали соседи, выхватила у него щетку и ботинок. Принялась чистить. Дядя Коля же решил, что мне нужны деньги и я таким образом пытаюсь заработать. Он ушел в квартиру и вернулся с мелочью. Пытался мне ее дать. Я категорически отказывалась. Ситуация разрешилась, когда дядя Коля пришел к моей маме. Он привык сам чистить свои ботинки, но вдруг оказался лишен радости и отдушины – пока чистит, не слышит упреков жены и вечных претензий дочерей. Они знают, что это время – святое, и не беспокоят его. А тут он выходит, и опять все ботинки идеально сверкают. Может, Маше найти другую подработку? Он оставлял деньги, но она так и не берет. Однажды целый рубль положил, решив, что обижает меня низкой оплатой. Но и рубль остался лежать в ботинке. Мама рассказала про традиции. А мне строго-настрого запретила чистить обувь дяди Коли. Но тот, кажется, про традиции не поверил, а я просто спускалась на этаж – вдруг понадоблюсь. От дяди Коли я узнала про гуталин, воск и прочие премудрости для чистки. Часто он использовал крем для рук или лица, который тайно забирал из шкафчика в ванной. Жена и дочери удивлялись, куда делся крем, но на дядю Колю никто и подумать не мог. Так я узнала, что крем для лица идеально подходит для ботинок, если только они сделаны из натуральной кожи, а не из кожзама. Сосед рассказывал про разные способы вернуть цвет обуви. Ему бы реставратором работать. Он, кстати, об этом мечтал: сидеть в какой-нибудь маленькой мастерской и возвращать жизнь старым туфлям или ботинкам. Дядя Коля подарил мне баночку гуталина, маленькую обувную щетку, воск, вазелин.
Этот урок мне тоже пригодился. Я вернулась к бабушке в село и однажды так начистила обувь, что обо мне пошли слухи. Все ахнули. Бабушка тогда кричала, что ее внучка не будет чистить обувь, даже не приходите и не просите. Ни за какие деньги. Нашли мальчика, тьфу, девочку-чистильщицу.
Еще одно потрясение я пережила, увидев, как папа моей одноклассницы, к которой я зашла в гости, моет посуду. Причем облаченный в женский фартук. В селе я не видела ни одного мужчины, который, радостно насвистывая, мыл бы посуду. Про женский фартук я вообще старалась не думать. Это же… ну, как если бы мужчина вместо кепки надел женскую шляпу или повязал бы на голову платок. Такого не может быть никогда. Но к тому времени я уже привыкла держать рот на замке и не стала уточнять, как после такого позора он сможет выйти во двор. На всякий случай пообещала однокласснице, что ничего не скажу.
– Про что? – не поняла она.
– Про посуду и фартук, – прошептала я.
Одноклассница решила, что я странная, и больше со мной не дружила.
* * *
Лифт меня завораживал. Я могла кататься в нем до тех пор, пока соседи не начинали ругаться. Еще мне нравилось вывалиться до пояса из окна и часами смотреть вниз. В селе выше двухэтажных домов сооружений не строили. Мама, боявшаяся высоты, подойти к окну не решалась. Мы жили на восьмом – других вариантов не было, – и она даже в форточку старалась не выглядывать. Я же наслаждалась. Мама узнала о моем увлечении от соседки, которая решила, что я собираюсь покончить жизнь самоубийством: «Вот вчера уже почти упала». Мама меня отчитала и запретила вообще приближаться к окну. Так я поняла, что это самое безопасное место в квартире – мама просто застывала на пороге. Она не могла меня заставить вернуться в свою комнату, не могла ударить полотенцем. Даже кричать была не способна – от страха. Так что я часто пользовалась ее боязнью высоты – чуть что, вываливалась из окна по пояс или вставала на подоконник.
В селе были одни запреты и правила, в Москве – другие и не очень мне понятные. Гулять с мальчиками после школы можно, а заходить просто так к соседям нельзя. В селе было с точностью до наоборот. Ходить в брюках или штанах можно, а не платить за хлеб или конфеты в магазине нельзя. В селе всегда можно было взять хлеб в долг, но штаны – позор. Носить короткие юбки можно, а выходить на улицу с едой – хлебом, посыпанным сахаром, нельзя. В селе – опять наоборот. Мне нужны были объяснения, но мама лишь отмахивалась.
Она, возвращая меня в Москву из села, тоже страдала. Я забывала закрыть дверь, уходя в магазин, – в селе двери не закрывали. Назначение дверной цепочки для меня вообще долго оставалось загадкой. Что такое щеколда, было понятно, а вот цепочка – нет. Как можно открыть дверь на расстояние щели? Это же невежливо. Что люди подумают? Наличие в двери двух замков, а не одного, тоже было откровением. Мама хваталась за голову, когда я, не отрываясь, жала на дверной звонок. Наш пел мелодичной трелью. Мне нравилось. Потом я обходила соседские квартиры и нажимала на их звонки. Все были разными. Мама меня ругала, а я не понимала за что. В селе звонков не было. Объявляя о приглашении на торжество, стучали в ворота палками. Если требовался хозяин дома, выкрикивали его имя. Отчего-то я боялась спросить у мамы про звонки, цепочку, замки. Даже не знаю почему. Став старше, научилась быстро мимикрировать.
* * *
Когда бабушка переехала в частный дом, я очень радовалась. Наконец мы жили как все. Точнее, как все девочки из моего класса, из музыкалки и танцевального кружка. Две кухни – летняя и зимняя, огромный огород, курятник, палисадник, сарай и аж два туалета, один ближе к дому, второй на огороде. Я была счастлива, что здесь не придется отмывать лестницу и чужую обувь. Что не нужно ждать очереди в уличный туалет, рассчитанный на всех жильцов дома. Что можно мыться на зимней кухне, а не в соседском сарае.
Но, как оказалось, двор требовалось подметать каждый день. Иногда и дважды. Еще и за воротами не забыть. Забудешь подмести за воротами – позору не оберешься. Да и пол в доме требовалось вымыть так, чтобы между деревянных половиц не осталось грязи. А как без грязи, когда дом на земле стоит? В квартире достаточно было пройтись мокрой тряпкой. А здесь – часами сидишь на коленках и вымываешь между половицами. До сих пор помню, как сижу, плачу и тру тряпкой. Понимаю, что толку не будет и завтра снова придется выскребать землю. И послезавтра тоже. А еще – наносить воды из уличной колонки, четыре ведра как минимум. Развесить белье, снять высохшее, отнести на зимнюю кухню, погладить. Перемыть всю обувь, пусть не десять пар, а всего три, но лучше бы десять перемыла. В центре села лежал асфальт, а здесь, на окраине, дороги в лучшем случае посыпали щебенкой, так что отмыть здесь одну пару – это как там, в центре, все десять. Те же усилия. После – выставить, чтобы просохла. На огород каждый день, без разговоров. Грядки прополоть. Собрать колорадских жуков с картошки, полить, еще раз полить, сорняки, грядки – и так каждый божий день… Полить цветы в палисаднике. Там тоже вырвать сорняки. Дать курам корм, собрать яйца, положить сено в ящики для несушек. Накопать картошку, собрать урожай – два черешневых дерева, одно вишневое. Вырвать крапиву, разросшуюся вдоль сетки. Совсем рядом, за сеткой – железная дорога. Там же – кусты кизила. Набрать ягоды. Кизиловые кусты с шипами, крапива больно жжется. А если молодая, то надо каждый день рвать – на суп, на лечебные настойки и притирки. Потом каждый лист очистить от грязи. К обеду уже падаешь без сил. Счастье, когда надо бежать в школу, потом в музыкалку, потом в ансамбль. Вечером снова отмыть обувь – к утру уже грязь не отдерешь, – помыть ноги и рухнуть в кровать. Про «помыть ноги» помнит каждый ребенок, выросший в селе. Помыться – это ритуал, целый день. Вечером помой ноги под уличным умывальником с пимпочкой. По утрам женщины протирались над тазом мокрой тряпкой. Проходились под мышками, под грудью, приседали, подмываясь. Про чистку зубов вообще никто не спрашивал.
Быт убивает, это я точно знаю. Когда мы жили с бабушкой в квартире, я по вечерам писала стихи, сказки, пыталась вести девичий дневник. Здесь же оставалось одно желание – доползти до кровати и уснуть. Бабушка тоже мало писала, увлекшись домашними делами, хозяйством частного дома. В этом она призналась только Варжетхан:
– Не могу писать совсем. Так устаю за день. Но ведь сама хотела, сама выбрала. Не успеваю ничего. Если день отработаю по дому, на огороде, вечером ни строчки не напишу. Думать не могу. Маша тоже страдает. Я думала, ей будет лучше. А она устает. Тоже без ног падает. Стихи начала писать – бросила.
– Ну а разве для тебя это новость? Быт убивает. А почему наши женщины в тридцать лет выглядят такими уставшими, будто они уже целую жизнь прожили? Потому что так и есть. У них каждый день одно и то же – дворы, уборка, стирка, готовка. Дело не в физических затратах, а в том, что все повторяется каждый божий день. Это и убивает, – ответила Варжетхан.
– И что мне делать? – спросила бабушка.
– Если хочешь писать, перестань строить из себя великую хозяйку. Живи как раньше. Пусть ребята тебе воды натаскают, дрова нарубят. Я попрошу Земфиру – будет к тебе приходить помогать по хозяйству. Ты ей только в знак благодарности масло, муку давай. Там семья большая… им всегда нужны продукты.
– Ты предлагаешь мне нанять домработницу? – ахнула бабушка.
– Нет, я предлагаю тебе выход из положения. Ты снова начнешь писать, Маша перестанет убиваться на огороде – посмотри на нее: глаза пустые, потухшие. Только грядки и видит. А Земфире в радость – она любит по дому возиться. Деньги не давай, продуктами плати. Всем будет хорошо.
Так и случилось. Земфира приходила каждый день и возилась по хозяйству. Бабушка снова начала писать и пропадать в редакции. Я вернулась к девичьему дневнику.
Деда, бабушкиного мужа, я почти не помню. Тихий старичок. Шаркал по ночам, когда выходил в коридор помочиться в ведро. Мочился долго, видимо, страдал простатитом. Это я сейчас понимаю. А тогда лежала и слушала, как моча бьет о стенки цинкового ведра. То сильно, то замолкает. Раньше я таких звуков не слышала. Несколько раз описалась, боясь встать и увидеть, как в ведро писает дед. Не решалась признаться бабушке, сама перестирывала белье. Кажется, я с дедом ни разу не разговаривала. Не помню такого. Даже как его звали, не помню, честно. Не обращалась к нему, он ко мне тоже. Дед умел вязать веники – в рабочем сарае целый цех был оборудован. Он вязал на продажу – на длинной ручке, чтобы сметать паутину с потолков. Большие, разлапистые – для двора, сметать листья. Жесткие, с короткой щетиной – для грязи. Обычные, традиционные – подметать в доме. Веников было видов двадцать, не меньше. Он не учил меня их плести, скорее, не выгонял из сарая. Разрешал брать инструменты. Но ничего не объяснял. Я иногда приходила и плела веники. Дед всегда срывал оставшиеся зерна с прутьев, а мне, наоборот, хотелось, чтобы веник был с зернами. Мне нравилось прошивать – шилом, черной липкой нитью. У деда была специальная мерка для веников. Я же делала так, как хотелось. Под свою руку. И не понимала, почему в этих мерках нет детского размера. Ведь дворы подметали в основном девочки моего возраста – вчерашние дети. Почему нельзя было сделать ручку покороче? А сам веник для двора – чуть поменьше? И, главный вопрос, почему не рассказала об этом бабушке? Ведь сама была обречена на то, чтобы управляться со здоровенной метлой, пока однажды не связала для себя веник – пусть корявый, плохо и слабо прошитый, но удобный. Мой веник просили напрокат подружки. И даже после этого – почему дед не взял на вооружение новый вид, почему бабушка не убедила его в этом и почему не похвалила меня? Сейчас понимаю. Все считали, что я так развлекаюсь – рано или поздно все равно покину деревню, так что размер веников останется в моей памяти слабым воспоминанием, если вообще останется.
Но нет. Именно размер веников в памяти остался очень четко. Как-то я отправилась в отпуск с приятельницей – мы приехали в гости к нашей общей подруге, живущей в одном из южных городков. И там, на улице, я купила для дочки крошечный веничек. Знала, что она будет в восторге. Дочь засыпала с маленькой щеткой и совочком, любила возиться на кукольной кухне, устраивать куклам чаепития – кукольный набор был сделан из настоящего фарфора. Я показала веничек приятельнице, на что она недоуменно спросила: «Ты что, для кладбища его купила?» Тогда я даже не поняла, почему она связала этот веник с кладбищем. В нашем селе на кладбище никто не ходил с вениками. Скорее, с цветочной рассадой – посадить цветы. На могилах не было искусственных цветов или срезанных. Только живые. Как в палисаднике. Сажали и на «своей» могиле, и на чужих, которые по соседству. Убирали так же – не только свой участок, но и те, что рядом. Общую тропинку обязательно. Так было принято и в частных домах: убираешь двор – убери свой кусок улицы. Если видишь грязь по соседству, то и там нужно убрать. А как иначе? Улица-то одна.
Дочь была счастлива, когда я выдала ей маленький, совсем крошечный веничек. Она подметала свою комнату. Ее совершенно не завораживал пылесос, а веник произвел впечатление. Я же все еще не могла отделаться от мысли – почему приятельница решила, что тот веник предназначен для уборки на кладбище? Глупость, конечно же, но у меня остался осадок.
Не помню, чтобы дед когда-нибудь разговаривал с моей мамой. Она приезжала и вела себя так, будто хозяйкой в доме была бабушка, общалась только с ней. Да и остальные жители села – соседи, гости – стучались в ворота и кричали: «Мария!» Хотя положено было звать хозяина дома, а тот уже отправлял кого-нибудь из сыновей узнать, что нужно, кто пришел. Женщины к воротам на зов не выходили. Никогда и никто. Кроме моей бабушки, естественно.
Мне бы очень хотелось узнать, почему она вышла замуж. Почему ее избранник на ней женился? Что их вообще связывало? Бабушка умерла до того, как я повзрослела и смогла бы задать эти вопросы. Мама же до сих пор молчит. Сколько я ни спрашивала, не отвечает.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь? – как-то возмутилась я.
– Потому что ты заставляешь меня вспоминать. А я этого не хочу, – ответила она.
– Опиши, что помнишь ты. Я же не прошу рассказывать сказку, – много раз просила я.
– Я рада, что бабушка подарила тебе другие воспоминания. Пусть они и останутся. Я помню совсем другое.
Да, мама это твердила мне с самого детства. Я, возвращаясь от бабушки в Москву, с восторгом рассказывала про черешню, тутовник, соседей, пироги, игры. Все, что было связано с селом, вызывало у меня восторг. Наверное, я приукрашивала действительность. Но в моих воспоминаниях помидоры с солью действительно были невероятно вкусными, пироги на столе стояли каждый день, соседи меня любили как родную дочь. Мои подружки были красивыми, добрыми и нежными. А в деревне, если меня послушать, что ни день, случался праздник, на котором детей закармливали конфетами и сладостями. Давали деньги на кино и мороженое и разрешали прогуливать школу.
Да, на праздниках действительно детям бросали деньги, которых хватало на кино и на мороженое, только праздники случались далеко не каждый день. Школу прогуливать разрешали, но под уважительным предлогом: сидела с младшими сестрами и братьями, собирала черешню, а потом стояла на базаре – продавала урожай. Или ходила собирать травы – ромашку, чабрец. И, конечно, мыла обувь.
Мое первое воспоминание – халва. Сладкая и липкая. Серого цвета, с ядреным вкусом семечек. А еще сами семечки в скрученном из газеты кульке. Все пакеты в селе назывались кульками. В Москве продукты заворачивались в бумагу, которая складывалась в форме кирпича. А в селе – в конусообразный кулек. Конфеты, семечки, печенье… Продавщицы за секунду умели скрутить из бумаги конус нужного размера и ссыпать все, что нужно. Снизу подкрутить, сверху загнуть края. Я тоже быстро научилась крутить кульки. Та халва была самой вкусной, самой сладкой из того, что я пробовала. Мое детство – вкус халвы и липкие пальцы.
– Хорошо, что ты помнишь? – спросила я маму.
– Кукурузу. Везде росла только кукуруза. Все поля были ею засажены. Ничего, кроме кукурузы. Початки, не собранные вовремя или не вызревшие из-за непогоды, подгнивали. Нас выгоняли на поле – собирать урожай. Вместо школы, других занятий. За работу нам выдавали кукурузную муку. Я ее видеть не могла. Обычная, пшеничная, тоже была, но из нее готовили по важным поводам. А на каждый день эта. Варили каши, соусы, лепили лепешки. Не было никаких деревьев. Только эта проклятая кукуруза. Маленькие девочки из нее кукол делали, отгибая листья. Мы ее ели с голодухи, поджаривая на костре. Поперек горла стояла.
– Но это же так вкусно! Кукурузные лепешки, шир, дзыкка! – чуть ли не кричала я.
Шир – это сладкая кукурузная каша, которую готовили для детей. А дзыкка – лакомство, кулинарный шедевр. В этом случае в кашу, больше похожую на соус, добавляли осетинский сыр. Вкус – умереть не встать. Лепешки – вариант грузинского мчади. Если сварить фасоль, то лучше, чем мчади, к ней ничего придумать невозможно.
Я сейчас пеку мчади, когда приходят гости, делаю лобио. Детей я все детство кормила именно кукурузной сладкой кашей. Когда мы с мамой ездили на юг, на море, я всегда просила купить мне вареную кукурузу, которую разносили по пляжу. Сверху посыпанную крупной серой солью. Кажется, я могла съесть сразу три как минимум. Мама покупала и отходила в сторону – покурить. Только недавно она призналась, что не выносит даже запаха вареной кукурузы. Смотреть на нее не может. В ее памяти кукуруза ассоциировалась лишь с голодом и тяжелым трудом. А в моей – початок, мука, из которой были приготовлены блюда, остались чуть ли не самым вкусным, что я ела в своей жизни.
– А тутовник? Поля орешника? Заросли гороха? – вспоминала я. – Черешневые и вишневые деревья в каждом огороде? Старая липа на улице? Соседская яблоня? Персиковое дерево! Неужели ты не помнишь?
– Нет, ничего этого не было, – твердила, как заевшая пластинка, мама.
Я же помнила, как собирала цветки липы, которые потом превращались в отвар или добавлялись в чай. Персиковое дерево, росшее так, что часть веток оказывалась на нашем огороде, а часть – на соседском. Но даже плоды располагались настолько равномерно, что хватало всем. Да и в голову никому не приходило делить дерево или считать персики. Сколько досталось нам, а сколько соседям. Наоборот, соседи утверждали, что на нашей стороне персики вызревают сочнее и вкуснее. Бабушка хохотала, приговаривая: «У соседа всегда трава зеленее, а каша вкуснее», и приносила наши персики соседям, а те выдавали свои. Вкус был одинаковый. Но этот ритуал повторялся из года в год. И соседи настаивали – на нашей стороне вкуснее. Дети съедали персики, не разбираясь, с чьей ветки они были сорваны.
В ореховой роще можно было наесться молодыми грецкими орехами, пока тошнить не начнет. Тутовник с хлебом – идеальные завтрак, обед и ужин. Сырое яйцо, еще теплое, только из-под курицы. В каждом дворе любому ребенку чуть ли не насильно выдавали кусок пирога, конфеты, варенье, домашнее печенье, сладкий лаваш. Не могли выпустить из дома, не накормив перед этим на убой. Нет, я в селе никогда не голодала. Наоборот – превращалась в милую круглолицую девчушку с очаровательными ямочками на пухлых щеках. В Москве же снова становилась ходячим скелетом с высокими скулами и впалыми щеками. Есть хотелось все время, нестерпимо. Но… мне было невкусно. Нет, я не капризничала, ела, что было, что давали. Но все казалось картонным, ненастоящим. Курица не пахла курицей, а колбасу я вообще не понимала – в селе колбасы не было, никакой. Мама отправляла бабушке в посылках «палки», как их тогда называли, салями. Но бабушка использовала их для подарков. Сама никогда не ела. Когда мама с бабушкой ругались по поводу взяток – мама не скрывала, что использует связи и взятки, чтобы достать билет на самолет или поезд, дефицитную еду или одежду, – бабушка кричала, что так делать нельзя. И называла маму взяточницей.
– А колбаса, которую я тебе отправляю? Банки икры, паштетов, конфеты, которые ты не ешь, а раздаешь? Разве это не взяточничество? – возмущалась в ответ мама.
Кутенок скулил по ночам. Бабушкино сердце не выдержало, и она забрала его в кровать, где Ночка выдала ему сосок. Маресьев считал себя котенком, научился быстро передвигаться, используя только передние лапы. Он играл с котятами, пытался не гавкать, а мяукать, и ему это почти удавалось. Когда Маресьев немного подрос, Мухтар начал выводить его на дежурства. Щенок радостно мяукал, труся за Мухтаром. На ночь они возвращались в бабушкин дом. Ночка шипела на Мухтара, видимо, интересуясь, куда тот опять погнал ребенка. Он что-то жалостливо брехал в ответ. Маресьев ластился к кошке, а та его вылизывала и приводила к бабушке – на поздний ужин. Бабушка закатывала глаза и хохотала. Нормальная семья.
* * *
В прошлой квартире нужно было обязательно мыть подъезд, все этажи, лестничные пролеты. Но не каждый день. Мыли по очереди все жильцы дома, точнее, младшие девочки или девушки из каждой семьи. Повинность, ставшая традицией. Обувь, выставленную за порог квартиры, не только своей, но и чужой, тоже требовалось тщательно помыть. Иногда набиралось пар десять, не меньше. И каждую – отскобли от налипшей и застывшей глины, отмой в грязном тазу, потом промой в тазу с чистой водой. Каждый день. К бабушке часто приходили люди, и их обувь я тоже должна была отмыть. Если кто-то из нас, девочек, пропускал уроки в музыкальной школе, опаздывал на репетицию в ансамбле народного танца, нужно было сказать: «Мыла обувь». Это считалось уважительной причиной для прогула или опоздания.
Что меня поражало по возвращении в Москву? Здесь девочки не мыли ни свою, ни уж тем более чужую обувь. В этом не было необходимости. Туфли оставались чистыми. Я смотрела на свои сандалии и удивлялась – проходила целый день, а на них нет налипшей грязи. И никому в голову не приходило отругать меня за плохо вымытую обувь.
Как-то уже в московской школе я опоздала на урок. И когда учительница потребовала объяснений, я ответила, как было принято в деревне: «Мыла обувь». Учительница не знала, как реагировать. Мои одноклассники хохотали и потом долго дразнили, предлагая помыть им обувь. Я плакала и не понимала, что сказала не так.
В Москве никто не оставлял обувь за порогом, в коридоре. Только дядя Коля – сосед, живший двумя этажами ниже. Он выставлял ботинки рядом с дверью, выходил в коридор и с помощью каких-то красок из многочисленных банок натирал до блеска ботинки. Занимался этим часами, явно с удовольствием. Я могла поклясться, что увижу собственное отражение в его ботинке. Когда после жизни в селе я впервые увидела, как дядя Коля сам чистит обувь, чуть в обморок от ужаса не упала. Решила, что ему грозит несмываемый позор, и предложила свою помощь. Он удивился не меньше меня. Я думала, что у соседа нет жены или дочери, которые могут взять на себя эту повинность, и жалела его всем сердцем. Но оказалось, у соседа имелись и супруга, и даже две дочери. Дядя Коля был военным, привык чистить обувь, да и сам процесс ему нравился. Как он говорил: «Приводил мысли в порядок». В тот момент я этого не поняла, а сейчас – очень даже. Если нужно переключиться, займи руки. Неважно, что делать: вязать, шить, красить, готовить.
Но тогда получилось совсем смешно. Я из лучших побуждений, чтобы о дяди-Колином позоре не узнали соседи, выхватила у него щетку и ботинок. Принялась чистить. Дядя Коля же решил, что мне нужны деньги и я таким образом пытаюсь заработать. Он ушел в квартиру и вернулся с мелочью. Пытался мне ее дать. Я категорически отказывалась. Ситуация разрешилась, когда дядя Коля пришел к моей маме. Он привык сам чистить свои ботинки, но вдруг оказался лишен радости и отдушины – пока чистит, не слышит упреков жены и вечных претензий дочерей. Они знают, что это время – святое, и не беспокоят его. А тут он выходит, и опять все ботинки идеально сверкают. Может, Маше найти другую подработку? Он оставлял деньги, но она так и не берет. Однажды целый рубль положил, решив, что обижает меня низкой оплатой. Но и рубль остался лежать в ботинке. Мама рассказала про традиции. А мне строго-настрого запретила чистить обувь дяди Коли. Но тот, кажется, про традиции не поверил, а я просто спускалась на этаж – вдруг понадоблюсь. От дяди Коли я узнала про гуталин, воск и прочие премудрости для чистки. Часто он использовал крем для рук или лица, который тайно забирал из шкафчика в ванной. Жена и дочери удивлялись, куда делся крем, но на дядю Колю никто и подумать не мог. Так я узнала, что крем для лица идеально подходит для ботинок, если только они сделаны из натуральной кожи, а не из кожзама. Сосед рассказывал про разные способы вернуть цвет обуви. Ему бы реставратором работать. Он, кстати, об этом мечтал: сидеть в какой-нибудь маленькой мастерской и возвращать жизнь старым туфлям или ботинкам. Дядя Коля подарил мне баночку гуталина, маленькую обувную щетку, воск, вазелин.
Этот урок мне тоже пригодился. Я вернулась к бабушке в село и однажды так начистила обувь, что обо мне пошли слухи. Все ахнули. Бабушка тогда кричала, что ее внучка не будет чистить обувь, даже не приходите и не просите. Ни за какие деньги. Нашли мальчика, тьфу, девочку-чистильщицу.
Еще одно потрясение я пережила, увидев, как папа моей одноклассницы, к которой я зашла в гости, моет посуду. Причем облаченный в женский фартук. В селе я не видела ни одного мужчины, который, радостно насвистывая, мыл бы посуду. Про женский фартук я вообще старалась не думать. Это же… ну, как если бы мужчина вместо кепки надел женскую шляпу или повязал бы на голову платок. Такого не может быть никогда. Но к тому времени я уже привыкла держать рот на замке и не стала уточнять, как после такого позора он сможет выйти во двор. На всякий случай пообещала однокласснице, что ничего не скажу.
– Про что? – не поняла она.
– Про посуду и фартук, – прошептала я.
Одноклассница решила, что я странная, и больше со мной не дружила.
* * *
Лифт меня завораживал. Я могла кататься в нем до тех пор, пока соседи не начинали ругаться. Еще мне нравилось вывалиться до пояса из окна и часами смотреть вниз. В селе выше двухэтажных домов сооружений не строили. Мама, боявшаяся высоты, подойти к окну не решалась. Мы жили на восьмом – других вариантов не было, – и она даже в форточку старалась не выглядывать. Я же наслаждалась. Мама узнала о моем увлечении от соседки, которая решила, что я собираюсь покончить жизнь самоубийством: «Вот вчера уже почти упала». Мама меня отчитала и запретила вообще приближаться к окну. Так я поняла, что это самое безопасное место в квартире – мама просто застывала на пороге. Она не могла меня заставить вернуться в свою комнату, не могла ударить полотенцем. Даже кричать была не способна – от страха. Так что я часто пользовалась ее боязнью высоты – чуть что, вываливалась из окна по пояс или вставала на подоконник.
В селе были одни запреты и правила, в Москве – другие и не очень мне понятные. Гулять с мальчиками после школы можно, а заходить просто так к соседям нельзя. В селе было с точностью до наоборот. Ходить в брюках или штанах можно, а не платить за хлеб или конфеты в магазине нельзя. В селе всегда можно было взять хлеб в долг, но штаны – позор. Носить короткие юбки можно, а выходить на улицу с едой – хлебом, посыпанным сахаром, нельзя. В селе – опять наоборот. Мне нужны были объяснения, но мама лишь отмахивалась.
Она, возвращая меня в Москву из села, тоже страдала. Я забывала закрыть дверь, уходя в магазин, – в селе двери не закрывали. Назначение дверной цепочки для меня вообще долго оставалось загадкой. Что такое щеколда, было понятно, а вот цепочка – нет. Как можно открыть дверь на расстояние щели? Это же невежливо. Что люди подумают? Наличие в двери двух замков, а не одного, тоже было откровением. Мама хваталась за голову, когда я, не отрываясь, жала на дверной звонок. Наш пел мелодичной трелью. Мне нравилось. Потом я обходила соседские квартиры и нажимала на их звонки. Все были разными. Мама меня ругала, а я не понимала за что. В селе звонков не было. Объявляя о приглашении на торжество, стучали в ворота палками. Если требовался хозяин дома, выкрикивали его имя. Отчего-то я боялась спросить у мамы про звонки, цепочку, замки. Даже не знаю почему. Став старше, научилась быстро мимикрировать.
* * *
Когда бабушка переехала в частный дом, я очень радовалась. Наконец мы жили как все. Точнее, как все девочки из моего класса, из музыкалки и танцевального кружка. Две кухни – летняя и зимняя, огромный огород, курятник, палисадник, сарай и аж два туалета, один ближе к дому, второй на огороде. Я была счастлива, что здесь не придется отмывать лестницу и чужую обувь. Что не нужно ждать очереди в уличный туалет, рассчитанный на всех жильцов дома. Что можно мыться на зимней кухне, а не в соседском сарае.
Но, как оказалось, двор требовалось подметать каждый день. Иногда и дважды. Еще и за воротами не забыть. Забудешь подмести за воротами – позору не оберешься. Да и пол в доме требовалось вымыть так, чтобы между деревянных половиц не осталось грязи. А как без грязи, когда дом на земле стоит? В квартире достаточно было пройтись мокрой тряпкой. А здесь – часами сидишь на коленках и вымываешь между половицами. До сих пор помню, как сижу, плачу и тру тряпкой. Понимаю, что толку не будет и завтра снова придется выскребать землю. И послезавтра тоже. А еще – наносить воды из уличной колонки, четыре ведра как минимум. Развесить белье, снять высохшее, отнести на зимнюю кухню, погладить. Перемыть всю обувь, пусть не десять пар, а всего три, но лучше бы десять перемыла. В центре села лежал асфальт, а здесь, на окраине, дороги в лучшем случае посыпали щебенкой, так что отмыть здесь одну пару – это как там, в центре, все десять. Те же усилия. После – выставить, чтобы просохла. На огород каждый день, без разговоров. Грядки прополоть. Собрать колорадских жуков с картошки, полить, еще раз полить, сорняки, грядки – и так каждый божий день… Полить цветы в палисаднике. Там тоже вырвать сорняки. Дать курам корм, собрать яйца, положить сено в ящики для несушек. Накопать картошку, собрать урожай – два черешневых дерева, одно вишневое. Вырвать крапиву, разросшуюся вдоль сетки. Совсем рядом, за сеткой – железная дорога. Там же – кусты кизила. Набрать ягоды. Кизиловые кусты с шипами, крапива больно жжется. А если молодая, то надо каждый день рвать – на суп, на лечебные настойки и притирки. Потом каждый лист очистить от грязи. К обеду уже падаешь без сил. Счастье, когда надо бежать в школу, потом в музыкалку, потом в ансамбль. Вечером снова отмыть обувь – к утру уже грязь не отдерешь, – помыть ноги и рухнуть в кровать. Про «помыть ноги» помнит каждый ребенок, выросший в селе. Помыться – это ритуал, целый день. Вечером помой ноги под уличным умывальником с пимпочкой. По утрам женщины протирались над тазом мокрой тряпкой. Проходились под мышками, под грудью, приседали, подмываясь. Про чистку зубов вообще никто не спрашивал.
Быт убивает, это я точно знаю. Когда мы жили с бабушкой в квартире, я по вечерам писала стихи, сказки, пыталась вести девичий дневник. Здесь же оставалось одно желание – доползти до кровати и уснуть. Бабушка тоже мало писала, увлекшись домашними делами, хозяйством частного дома. В этом она призналась только Варжетхан:
– Не могу писать совсем. Так устаю за день. Но ведь сама хотела, сама выбрала. Не успеваю ничего. Если день отработаю по дому, на огороде, вечером ни строчки не напишу. Думать не могу. Маша тоже страдает. Я думала, ей будет лучше. А она устает. Тоже без ног падает. Стихи начала писать – бросила.
– Ну а разве для тебя это новость? Быт убивает. А почему наши женщины в тридцать лет выглядят такими уставшими, будто они уже целую жизнь прожили? Потому что так и есть. У них каждый день одно и то же – дворы, уборка, стирка, готовка. Дело не в физических затратах, а в том, что все повторяется каждый божий день. Это и убивает, – ответила Варжетхан.
– И что мне делать? – спросила бабушка.
– Если хочешь писать, перестань строить из себя великую хозяйку. Живи как раньше. Пусть ребята тебе воды натаскают, дрова нарубят. Я попрошу Земфиру – будет к тебе приходить помогать по хозяйству. Ты ей только в знак благодарности масло, муку давай. Там семья большая… им всегда нужны продукты.
– Ты предлагаешь мне нанять домработницу? – ахнула бабушка.
– Нет, я предлагаю тебе выход из положения. Ты снова начнешь писать, Маша перестанет убиваться на огороде – посмотри на нее: глаза пустые, потухшие. Только грядки и видит. А Земфире в радость – она любит по дому возиться. Деньги не давай, продуктами плати. Всем будет хорошо.
Так и случилось. Земфира приходила каждый день и возилась по хозяйству. Бабушка снова начала писать и пропадать в редакции. Я вернулась к девичьему дневнику.
Деда, бабушкиного мужа, я почти не помню. Тихий старичок. Шаркал по ночам, когда выходил в коридор помочиться в ведро. Мочился долго, видимо, страдал простатитом. Это я сейчас понимаю. А тогда лежала и слушала, как моча бьет о стенки цинкового ведра. То сильно, то замолкает. Раньше я таких звуков не слышала. Несколько раз описалась, боясь встать и увидеть, как в ведро писает дед. Не решалась признаться бабушке, сама перестирывала белье. Кажется, я с дедом ни разу не разговаривала. Не помню такого. Даже как его звали, не помню, честно. Не обращалась к нему, он ко мне тоже. Дед умел вязать веники – в рабочем сарае целый цех был оборудован. Он вязал на продажу – на длинной ручке, чтобы сметать паутину с потолков. Большие, разлапистые – для двора, сметать листья. Жесткие, с короткой щетиной – для грязи. Обычные, традиционные – подметать в доме. Веников было видов двадцать, не меньше. Он не учил меня их плести, скорее, не выгонял из сарая. Разрешал брать инструменты. Но ничего не объяснял. Я иногда приходила и плела веники. Дед всегда срывал оставшиеся зерна с прутьев, а мне, наоборот, хотелось, чтобы веник был с зернами. Мне нравилось прошивать – шилом, черной липкой нитью. У деда была специальная мерка для веников. Я же делала так, как хотелось. Под свою руку. И не понимала, почему в этих мерках нет детского размера. Ведь дворы подметали в основном девочки моего возраста – вчерашние дети. Почему нельзя было сделать ручку покороче? А сам веник для двора – чуть поменьше? И, главный вопрос, почему не рассказала об этом бабушке? Ведь сама была обречена на то, чтобы управляться со здоровенной метлой, пока однажды не связала для себя веник – пусть корявый, плохо и слабо прошитый, но удобный. Мой веник просили напрокат подружки. И даже после этого – почему дед не взял на вооружение новый вид, почему бабушка не убедила его в этом и почему не похвалила меня? Сейчас понимаю. Все считали, что я так развлекаюсь – рано или поздно все равно покину деревню, так что размер веников останется в моей памяти слабым воспоминанием, если вообще останется.
Но нет. Именно размер веников в памяти остался очень четко. Как-то я отправилась в отпуск с приятельницей – мы приехали в гости к нашей общей подруге, живущей в одном из южных городков. И там, на улице, я купила для дочки крошечный веничек. Знала, что она будет в восторге. Дочь засыпала с маленькой щеткой и совочком, любила возиться на кукольной кухне, устраивать куклам чаепития – кукольный набор был сделан из настоящего фарфора. Я показала веничек приятельнице, на что она недоуменно спросила: «Ты что, для кладбища его купила?» Тогда я даже не поняла, почему она связала этот веник с кладбищем. В нашем селе на кладбище никто не ходил с вениками. Скорее, с цветочной рассадой – посадить цветы. На могилах не было искусственных цветов или срезанных. Только живые. Как в палисаднике. Сажали и на «своей» могиле, и на чужих, которые по соседству. Убирали так же – не только свой участок, но и те, что рядом. Общую тропинку обязательно. Так было принято и в частных домах: убираешь двор – убери свой кусок улицы. Если видишь грязь по соседству, то и там нужно убрать. А как иначе? Улица-то одна.
Дочь была счастлива, когда я выдала ей маленький, совсем крошечный веничек. Она подметала свою комнату. Ее совершенно не завораживал пылесос, а веник произвел впечатление. Я же все еще не могла отделаться от мысли – почему приятельница решила, что тот веник предназначен для уборки на кладбище? Глупость, конечно же, но у меня остался осадок.
Не помню, чтобы дед когда-нибудь разговаривал с моей мамой. Она приезжала и вела себя так, будто хозяйкой в доме была бабушка, общалась только с ней. Да и остальные жители села – соседи, гости – стучались в ворота и кричали: «Мария!» Хотя положено было звать хозяина дома, а тот уже отправлял кого-нибудь из сыновей узнать, что нужно, кто пришел. Женщины к воротам на зов не выходили. Никогда и никто. Кроме моей бабушки, естественно.
Мне бы очень хотелось узнать, почему она вышла замуж. Почему ее избранник на ней женился? Что их вообще связывало? Бабушка умерла до того, как я повзрослела и смогла бы задать эти вопросы. Мама же до сих пор молчит. Сколько я ни спрашивала, не отвечает.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь? – как-то возмутилась я.
– Потому что ты заставляешь меня вспоминать. А я этого не хочу, – ответила она.
– Опиши, что помнишь ты. Я же не прошу рассказывать сказку, – много раз просила я.
– Я рада, что бабушка подарила тебе другие воспоминания. Пусть они и останутся. Я помню совсем другое.
Да, мама это твердила мне с самого детства. Я, возвращаясь от бабушки в Москву, с восторгом рассказывала про черешню, тутовник, соседей, пироги, игры. Все, что было связано с селом, вызывало у меня восторг. Наверное, я приукрашивала действительность. Но в моих воспоминаниях помидоры с солью действительно были невероятно вкусными, пироги на столе стояли каждый день, соседи меня любили как родную дочь. Мои подружки были красивыми, добрыми и нежными. А в деревне, если меня послушать, что ни день, случался праздник, на котором детей закармливали конфетами и сладостями. Давали деньги на кино и мороженое и разрешали прогуливать школу.
Да, на праздниках действительно детям бросали деньги, которых хватало на кино и на мороженое, только праздники случались далеко не каждый день. Школу прогуливать разрешали, но под уважительным предлогом: сидела с младшими сестрами и братьями, собирала черешню, а потом стояла на базаре – продавала урожай. Или ходила собирать травы – ромашку, чабрец. И, конечно, мыла обувь.
Мое первое воспоминание – халва. Сладкая и липкая. Серого цвета, с ядреным вкусом семечек. А еще сами семечки в скрученном из газеты кульке. Все пакеты в селе назывались кульками. В Москве продукты заворачивались в бумагу, которая складывалась в форме кирпича. А в селе – в конусообразный кулек. Конфеты, семечки, печенье… Продавщицы за секунду умели скрутить из бумаги конус нужного размера и ссыпать все, что нужно. Снизу подкрутить, сверху загнуть края. Я тоже быстро научилась крутить кульки. Та халва была самой вкусной, самой сладкой из того, что я пробовала. Мое детство – вкус халвы и липкие пальцы.
– Хорошо, что ты помнишь? – спросила я маму.
– Кукурузу. Везде росла только кукуруза. Все поля были ею засажены. Ничего, кроме кукурузы. Початки, не собранные вовремя или не вызревшие из-за непогоды, подгнивали. Нас выгоняли на поле – собирать урожай. Вместо школы, других занятий. За работу нам выдавали кукурузную муку. Я ее видеть не могла. Обычная, пшеничная, тоже была, но из нее готовили по важным поводам. А на каждый день эта. Варили каши, соусы, лепили лепешки. Не было никаких деревьев. Только эта проклятая кукуруза. Маленькие девочки из нее кукол делали, отгибая листья. Мы ее ели с голодухи, поджаривая на костре. Поперек горла стояла.
– Но это же так вкусно! Кукурузные лепешки, шир, дзыкка! – чуть ли не кричала я.
Шир – это сладкая кукурузная каша, которую готовили для детей. А дзыкка – лакомство, кулинарный шедевр. В этом случае в кашу, больше похожую на соус, добавляли осетинский сыр. Вкус – умереть не встать. Лепешки – вариант грузинского мчади. Если сварить фасоль, то лучше, чем мчади, к ней ничего придумать невозможно.
Я сейчас пеку мчади, когда приходят гости, делаю лобио. Детей я все детство кормила именно кукурузной сладкой кашей. Когда мы с мамой ездили на юг, на море, я всегда просила купить мне вареную кукурузу, которую разносили по пляжу. Сверху посыпанную крупной серой солью. Кажется, я могла съесть сразу три как минимум. Мама покупала и отходила в сторону – покурить. Только недавно она призналась, что не выносит даже запаха вареной кукурузы. Смотреть на нее не может. В ее памяти кукуруза ассоциировалась лишь с голодом и тяжелым трудом. А в моей – початок, мука, из которой были приготовлены блюда, остались чуть ли не самым вкусным, что я ела в своей жизни.
– А тутовник? Поля орешника? Заросли гороха? – вспоминала я. – Черешневые и вишневые деревья в каждом огороде? Старая липа на улице? Соседская яблоня? Персиковое дерево! Неужели ты не помнишь?
– Нет, ничего этого не было, – твердила, как заевшая пластинка, мама.
Я же помнила, как собирала цветки липы, которые потом превращались в отвар или добавлялись в чай. Персиковое дерево, росшее так, что часть веток оказывалась на нашем огороде, а часть – на соседском. Но даже плоды располагались настолько равномерно, что хватало всем. Да и в голову никому не приходило делить дерево или считать персики. Сколько досталось нам, а сколько соседям. Наоборот, соседи утверждали, что на нашей стороне персики вызревают сочнее и вкуснее. Бабушка хохотала, приговаривая: «У соседа всегда трава зеленее, а каша вкуснее», и приносила наши персики соседям, а те выдавали свои. Вкус был одинаковый. Но этот ритуал повторялся из года в год. И соседи настаивали – на нашей стороне вкуснее. Дети съедали персики, не разбираясь, с чьей ветки они были сорваны.
В ореховой роще можно было наесться молодыми грецкими орехами, пока тошнить не начнет. Тутовник с хлебом – идеальные завтрак, обед и ужин. Сырое яйцо, еще теплое, только из-под курицы. В каждом дворе любому ребенку чуть ли не насильно выдавали кусок пирога, конфеты, варенье, домашнее печенье, сладкий лаваш. Не могли выпустить из дома, не накормив перед этим на убой. Нет, я в селе никогда не голодала. Наоборот – превращалась в милую круглолицую девчушку с очаровательными ямочками на пухлых щеках. В Москве же снова становилась ходячим скелетом с высокими скулами и впалыми щеками. Есть хотелось все время, нестерпимо. Но… мне было невкусно. Нет, я не капризничала, ела, что было, что давали. Но все казалось картонным, ненастоящим. Курица не пахла курицей, а колбасу я вообще не понимала – в селе колбасы не было, никакой. Мама отправляла бабушке в посылках «палки», как их тогда называли, салями. Но бабушка использовала их для подарков. Сама никогда не ела. Когда мама с бабушкой ругались по поводу взяток – мама не скрывала, что использует связи и взятки, чтобы достать билет на самолет или поезд, дефицитную еду или одежду, – бабушка кричала, что так делать нельзя. И называла маму взяточницей.
– А колбаса, которую я тебе отправляю? Банки икры, паштетов, конфеты, которые ты не ешь, а раздаешь? Разве это не взяточничество? – возмущалась в ответ мама.