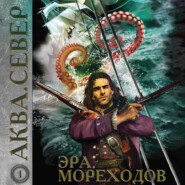По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
13 привидений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, я читал. Но история про инвалидов была сильно раздута в девяностые. А может, вообще придумана. Это всего лишь городская легенда.
– Нет, все так и было. – Глинский глянул неожиданно жестко. – В середине пятидесятых в больнице случился пожар. До сих пор точно неизвестно, случайность это была или намеренный поджог. Медиков было мало, а калек – переполненные палаты. Почти никто не выбрался из огня. Представляете, сколько людей погибло? В конце пятидесятых на месте госпиталя построили киностудию. Вот такая история.
– Ну… – Камарин вздохнул, спорить ему не хотелось. – Надо сказать, я восхищаюсь вашей храбростью. Или безрассудством. Взять в качестве своего первого фильма настолько спорную и трудную тему… Вас уже распекают комментаторы на «Ютьюбе». Готовьтесь к тому, что будет дальше. Дерьма на вас выльют еще целые цистерны, гарантирую.
– Это неважно. Я показываю правду.
– Если можно, я бы хотел глянуть на ваши съемки.
Чернявый надолго задумался. Казалось, он колебался. Не хочет выдавать профессиональных секретов? Да какие секреты могут быть у создателя малобюджетных веб-фильмов?
– Так и быть, – сказал он наконец. – Можно. В конце концов, это будет полезно для вас… Только при двух условиях. Первое. Слушаться меня во всем. Второе. Не приставать к актерам с разговорами. Вообще не говорить с ними.
– Хорошо. – Камарин пожал плечами. Странновато, но ладно; мало ли что там за кухня у начинающего режиссера. Может, он сумел найти где-то группу настоящих калек. – Знаете, мне ведь и правда очень интересно, – добавил Камарин. – Но почему вы, новичок в кино, считаете, что это для меня полезно?
– Еще раз простите, но… – Глинский улыбнулся, и его почти застенчивая улыбка контрастировала с жестокостью слов: – Я ненавижу халтуру. В любой области. Особенно ненавижу халтуру в искусстве. Надеюсь, после того, что вы увидите на съемочной площадке, у вас надолго пропадет желание стряпать дешевку.
Ну точно – с настоящими калеками работает, решил Камарин. Ощущая растущее раздражение в адрес собеседника физически, как изжогу, он проглотил, однако, и это высказывание. Камарин не простил бы себе, если бы не узнал, как снимается кино, вынимающее из зрителя душу и будто пропускающее ее сквозь мясорубку. Он не был уверен, что сам когда-нибудь захочет снимать подобное, юношеских экспериментов с псевдодокументальной «жестью» было довольно. Но этого режиссера он хотел вытащить в мир большого кино, даже невзирая на раздражение, даже если потом сто раз пожалеет о своей помощи.
– Приходите сегодня к семи часам вечера на киностудию, – сказал Глинский. – Вход со двора. Подъезд номер один.
Камарин почему-то по-детски обрадовался и почти не удивился: значит, здание, завораживавшее его в школьные времена, еще оставалось приютом для достойного кино. Постройка была громадной, помимо торгового центра, там произрастало множество каких-то контор; видать, нашлось место и для небольшого съемочного павильона.
– Вы там арендуете помещение?
– Вроде того, – снова слегка улыбнулся Глинский. Его большие, светлые в прозелень пустоватые глаза с холодным любопытством наблюдали за собеседником.
В семь вечера Камарин стоял во дворе киностудии. Снег здесь почти растаял, последние лучи закатного солнца поднимались все выше по этажам высотного здания напротив, будто по шкале, отсчитывающей сумрак, что постепенно наливался в двор-колодец, точно в граненый стакан. Парковка, несмотря на довольно ранний час, пустовала. Не было видно и людей. Где-то наверху в бывшей киностудии раздражающе часто хлопало старое окно, дребезжа рамами. Его кто-то бесконечно то открывал, то закрывал с тупой монотонностью.
Из-за этой встречи Камарин опаздывал – да уже опоздал – на самолет, но ничуть не жалел. В Москве его никто особенно не ждал. С инстаграмщицей в голубых дредах он давно расстался, а что касается работы – уже одна мысль об очередном проекте вызывала тошноту. Вообще, впервые за многие годы в его жизни происходило что-то, пробуждающее искренний интерес. Что-то настоящее, а не привычный суррогат – якобы творческая работа и якобы искренние отношения. Псевдотворчество и псевдоотношения – иного он за последний десяток лет и не видел.
До назначенного времени Камарин читал в Сети статьи про историю киностудии. Действительно на ее месте раньше был военный госпиталь, и существовал любопытный пласт городских легенд, связанный с этим местом, – вроде как и сегодня в коридорах и бутиках торгового центра можно увидеть призраки инвалидов, заживо сгоревших в госпитале более полувека тому назад. А бывшие работники киностудии до сих пор рассказывают о полтергейстах, некогда мешавших съемочному процессу, особенно когда снимали фильмы про войну… Что-то похожее на эти байки Камарин слышал и в детстве, но пропускал мимо ушей. Его одноклассники боялись залезать в заброшенное здание: поговаривали, однажды там пропал подросток, пошел туда и не вернулся, а нашли его лишь через несколько дней, всего перемазанного в гари, поседевшего и совершенно сумасшедшего. Впрочем, Камарин тогда нисколько не интересовался походами по «заброшкам», все свободное время предпочитая тратить на кино.
Глинский, неприметный, одетый во все черное, появился рядом внезапно, точно призрак, Камарин аж вздрогнул. Двор уже погрузился в сумрак. Окно наверху по-прежнему равномерно хлопало. Сквозняк? После всего прочитанного о полтергейстах невольно становилось не по себе. Да еще припомнились слышанные на днях в торговом центре кашель и стук костылей. Камарин натужно усмехнулся. Умеет же человек сам себя напугать из-за ерунды.
– Добрый вечер. Пойдемте, – сказал Глинский.
– Почему тут везде так пусто?
– Аренда очень дорогая. Мало кто снимает.
– А как же вы…
– А я работаю тут охранником. И не плачу за съем помещений.
Заинтригованный, Камарин пошел следом: и как этот сам-себе-режиссер умудряется протащить сюда, выходит, без разрешения целую толпу народу? Судя по трем сериям, в фильме был задействован весьма основательный актерский состав.
Вдоль узкого коридора стоял офисный стол, с него на Камарина пялилась прямоугольным раструбом бленды бюджетная, но довольно приличная видеокамера. Глинский взял ее наизготовку, точно оружие. Посмотрел на часы.
– Почти половина восьмого. Именно в половину восьмого все и началось.
– Что именно?
– Пожар в госпитале. Продолжался до часу ночи. Если нам повезет, у вас будет достаточно времени, чтобы все рассмотреть.
– Не понимаю, о чем вы? – Камарину показалось, что собеседник заговаривается. Снова подкатило раздражение. Этот самоучка с «Ютьюба» был, конечно, талантлив, но притом крайне несимпатичен, и к тому же несколько не в себе.
Глинский обернулся и в упор посмотрел на Камарина. В полумраке служебного коридора его глаза, чудилось, слегка светились, будто у кошки.
– Правила помните? С теми, кого вы тут увидите, не разговаривать. Меня слушаться беспрекословно.
– Да в самом же деле! Я не понимаю ни хрена!
– Я тоже до сих пор не все понимаю. Хотя прочел все, что смог найти на эту тему. Есть теория, что живые существа оставляют энергетические отпечатки. В местах массовых смертей эти отпечатки наиболее сильны и отчетливы. По-видимому, они обладают каким-то остаточным разумом… Еще есть теория, что материи как таковой не существует, все во Вселенной по сути – энергия…
Камарин повернулся, чтобы уйти. Только экскурсии с сумасшедшим ему не хватало.
И вдруг рядом хлопнула полуоткрытая дверь. Сама по себе медленно-медленно отворилась и снова с треском захлопнулась. Камарин еще ничего толком не осознал, но за шиворот ему словно сыпанули ледяного бисера, мелко ссыпавшегося вдоль позвоночника.
– Все, началось, – с удовлетворением заявил Глинский. – Похоже, вы сумели вызвать их интерес. На меня одного они уже, увы, далеко не всегда реагируют, совсем привыкли, а материал снимать дальше надо…
– Кто – они? – тихо спросил Камарин, уже, впрочем, зная ответ.
– Мои псевдоактеры, – с холодной иронией усмехнулся Глинский.
С другой стороны хлопнула еще одна дверь, и еще; в пустых офисах послышались голоса.
– Здесь их увидеть довольно просто, – прибавил Глинский. – Они хотят быть увиденными. Потому что их убили. Сожгли заживо. Они хотят, чтобы об этом узнали. Пойдемте.
Камарин, не слушая, бросился к выходу, но отскочил обратно, потому что прямо на него, будто не видя, шел величавый мужчина с седой бородкой, в высоком белом колпаке и в медхалате, какие носили в советские времена. Врач выглядел… нормально. Не просвечивал или что-то такое. Но повернул в одно из пустых офисных помещений и просто… исчез.
Камарин беззвучно открыл рот и попятился обратно. Он не псих. Но он видел то, что видел.
– Так вы снимаете призраков. – Ему просто нужно было это произнести, чтобы до конца осознать. – Почему, как?..
– Как это началось? – Глинский слегка пожал плечами, качнув неповоротливой видеокамерой. – Когда-то я мечтал снимать кино, как и вы. Жизнь не позволила. Кстати, фамилия у меня, как вы понимаете, вовсе не Глинский, обычная дурацкая фамилия… Устроился сюда охранником. Сначала пугался всего, думал, спятил. Хотел уволиться. Потом понял, что показываются они не всем… что-то им от меня нужно. Я понял, что. И начал снимать. Но я им несколько приелся в качестве зрителя. А тут вы…
Все время, пока спутник говорил, Камарин по инерции шел вперед по коридору, и пространство вокруг неуловимо менялось – даже нельзя было сказать, в какой именно момент узкий гипсокартонный коридор превратился в просторный, крашенный масляной краской, а небольшие двери, исчадия убогого евроремонта, стали широкими, рассчитанными на то, чтобы провезти тяжелые больничные койки-каталки.
– Отчасти я даже привык ко всему этому, – прошептал рядом Глинский. – Но полностью привыкнуть невозможно.
Они медленно направились дальше. Все кругом было сумрачно-серое, с неожиданными и в чем-то неправильными источниками блеклого туманного освещения, и стены время от времени будто плыли в легкой дымке, слегка деформировались, чтобы затем снова вернуться на место. Камарин инстинктивно держался совсем рядом со спутником, почти вплотную: черт побери, ему было по-настоящему страшно, кроме того, донимало все-таки неслабое подозрение, что он попросту сошел с ума. Невольно он заглядывал в палаты – двери во всех стояли распахнутыми. Койки там были поставлены так тесно, что между ними можно было пройти только боком. И на всех койках лежали люди. Инвалиды. Калеки. В голову приходило страшное в своем цинизме слово «обрубки». У всех пациентов здесь не хватало как минимум двух конечностей. Больше всего повезло тем, у кого была рука и нога, такие сами передвигались с помощью костыля, неуклюжие, но приноровившись ловить равновесие, наклоняясь под странными углами. У большинства же отсутствовали либо обе руки, либо обе ноги. Страшнее всего было смотреть на тех, кому оторвало – или ампутировали – все конечности. Такие лежали на кроватях, укрытые крохотными, детскими одеялами, похожие не то на человеческих личинок, не то на младенцев-переростков, и их непомерно большие головы покоились на высоких подушках – угловатые, плохо выбритые головы взрослых, повидавших на своем веку все самое ужасное людей, с морщинистой задубевшей кожей и почему-то очень ясными, лучащимися глазами, словно наполненными битым хрусталем.
От всего увиденного Камарин не чувствовал собственных ног. Он вспомнил недавний свой сериал про войну, и, если бы можно было умереть от стыда, он, наверное, издох бы на месте. Он поймал себя на том, что, как ребенок, ловит за локоть Глинского, боясь потеряться в невозможной псевдореальности прошлого.
– Почему… почему вы думаете, что их убили? – пробормотал Камарин. – Они же воевали, они же герои, за что их убивать…
– Да кто теперь разберется, почему и за что, – сухо ответил Глинский. От его мягкой стелющейся вежливости не осталось и следа. – Мне самому интересно. Пожар они мне еще ни разу не показывали. Иногда мне кажется, они показывают только то, что моя психика способна выдержать.
– Нет, все так и было. – Глинский глянул неожиданно жестко. – В середине пятидесятых в больнице случился пожар. До сих пор точно неизвестно, случайность это была или намеренный поджог. Медиков было мало, а калек – переполненные палаты. Почти никто не выбрался из огня. Представляете, сколько людей погибло? В конце пятидесятых на месте госпиталя построили киностудию. Вот такая история.
– Ну… – Камарин вздохнул, спорить ему не хотелось. – Надо сказать, я восхищаюсь вашей храбростью. Или безрассудством. Взять в качестве своего первого фильма настолько спорную и трудную тему… Вас уже распекают комментаторы на «Ютьюбе». Готовьтесь к тому, что будет дальше. Дерьма на вас выльют еще целые цистерны, гарантирую.
– Это неважно. Я показываю правду.
– Если можно, я бы хотел глянуть на ваши съемки.
Чернявый надолго задумался. Казалось, он колебался. Не хочет выдавать профессиональных секретов? Да какие секреты могут быть у создателя малобюджетных веб-фильмов?
– Так и быть, – сказал он наконец. – Можно. В конце концов, это будет полезно для вас… Только при двух условиях. Первое. Слушаться меня во всем. Второе. Не приставать к актерам с разговорами. Вообще не говорить с ними.
– Хорошо. – Камарин пожал плечами. Странновато, но ладно; мало ли что там за кухня у начинающего режиссера. Может, он сумел найти где-то группу настоящих калек. – Знаете, мне ведь и правда очень интересно, – добавил Камарин. – Но почему вы, новичок в кино, считаете, что это для меня полезно?
– Еще раз простите, но… – Глинский улыбнулся, и его почти застенчивая улыбка контрастировала с жестокостью слов: – Я ненавижу халтуру. В любой области. Особенно ненавижу халтуру в искусстве. Надеюсь, после того, что вы увидите на съемочной площадке, у вас надолго пропадет желание стряпать дешевку.
Ну точно – с настоящими калеками работает, решил Камарин. Ощущая растущее раздражение в адрес собеседника физически, как изжогу, он проглотил, однако, и это высказывание. Камарин не простил бы себе, если бы не узнал, как снимается кино, вынимающее из зрителя душу и будто пропускающее ее сквозь мясорубку. Он не был уверен, что сам когда-нибудь захочет снимать подобное, юношеских экспериментов с псевдодокументальной «жестью» было довольно. Но этого режиссера он хотел вытащить в мир большого кино, даже невзирая на раздражение, даже если потом сто раз пожалеет о своей помощи.
– Приходите сегодня к семи часам вечера на киностудию, – сказал Глинский. – Вход со двора. Подъезд номер один.
Камарин почему-то по-детски обрадовался и почти не удивился: значит, здание, завораживавшее его в школьные времена, еще оставалось приютом для достойного кино. Постройка была громадной, помимо торгового центра, там произрастало множество каких-то контор; видать, нашлось место и для небольшого съемочного павильона.
– Вы там арендуете помещение?
– Вроде того, – снова слегка улыбнулся Глинский. Его большие, светлые в прозелень пустоватые глаза с холодным любопытством наблюдали за собеседником.
В семь вечера Камарин стоял во дворе киностудии. Снег здесь почти растаял, последние лучи закатного солнца поднимались все выше по этажам высотного здания напротив, будто по шкале, отсчитывающей сумрак, что постепенно наливался в двор-колодец, точно в граненый стакан. Парковка, несмотря на довольно ранний час, пустовала. Не было видно и людей. Где-то наверху в бывшей киностудии раздражающе часто хлопало старое окно, дребезжа рамами. Его кто-то бесконечно то открывал, то закрывал с тупой монотонностью.
Из-за этой встречи Камарин опаздывал – да уже опоздал – на самолет, но ничуть не жалел. В Москве его никто особенно не ждал. С инстаграмщицей в голубых дредах он давно расстался, а что касается работы – уже одна мысль об очередном проекте вызывала тошноту. Вообще, впервые за многие годы в его жизни происходило что-то, пробуждающее искренний интерес. Что-то настоящее, а не привычный суррогат – якобы творческая работа и якобы искренние отношения. Псевдотворчество и псевдоотношения – иного он за последний десяток лет и не видел.
До назначенного времени Камарин читал в Сети статьи про историю киностудии. Действительно на ее месте раньше был военный госпиталь, и существовал любопытный пласт городских легенд, связанный с этим местом, – вроде как и сегодня в коридорах и бутиках торгового центра можно увидеть призраки инвалидов, заживо сгоревших в госпитале более полувека тому назад. А бывшие работники киностудии до сих пор рассказывают о полтергейстах, некогда мешавших съемочному процессу, особенно когда снимали фильмы про войну… Что-то похожее на эти байки Камарин слышал и в детстве, но пропускал мимо ушей. Его одноклассники боялись залезать в заброшенное здание: поговаривали, однажды там пропал подросток, пошел туда и не вернулся, а нашли его лишь через несколько дней, всего перемазанного в гари, поседевшего и совершенно сумасшедшего. Впрочем, Камарин тогда нисколько не интересовался походами по «заброшкам», все свободное время предпочитая тратить на кино.
Глинский, неприметный, одетый во все черное, появился рядом внезапно, точно призрак, Камарин аж вздрогнул. Двор уже погрузился в сумрак. Окно наверху по-прежнему равномерно хлопало. Сквозняк? После всего прочитанного о полтергейстах невольно становилось не по себе. Да еще припомнились слышанные на днях в торговом центре кашель и стук костылей. Камарин натужно усмехнулся. Умеет же человек сам себя напугать из-за ерунды.
– Добрый вечер. Пойдемте, – сказал Глинский.
– Почему тут везде так пусто?
– Аренда очень дорогая. Мало кто снимает.
– А как же вы…
– А я работаю тут охранником. И не плачу за съем помещений.
Заинтригованный, Камарин пошел следом: и как этот сам-себе-режиссер умудряется протащить сюда, выходит, без разрешения целую толпу народу? Судя по трем сериям, в фильме был задействован весьма основательный актерский состав.
Вдоль узкого коридора стоял офисный стол, с него на Камарина пялилась прямоугольным раструбом бленды бюджетная, но довольно приличная видеокамера. Глинский взял ее наизготовку, точно оружие. Посмотрел на часы.
– Почти половина восьмого. Именно в половину восьмого все и началось.
– Что именно?
– Пожар в госпитале. Продолжался до часу ночи. Если нам повезет, у вас будет достаточно времени, чтобы все рассмотреть.
– Не понимаю, о чем вы? – Камарину показалось, что собеседник заговаривается. Снова подкатило раздражение. Этот самоучка с «Ютьюба» был, конечно, талантлив, но притом крайне несимпатичен, и к тому же несколько не в себе.
Глинский обернулся и в упор посмотрел на Камарина. В полумраке служебного коридора его глаза, чудилось, слегка светились, будто у кошки.
– Правила помните? С теми, кого вы тут увидите, не разговаривать. Меня слушаться беспрекословно.
– Да в самом же деле! Я не понимаю ни хрена!
– Я тоже до сих пор не все понимаю. Хотя прочел все, что смог найти на эту тему. Есть теория, что живые существа оставляют энергетические отпечатки. В местах массовых смертей эти отпечатки наиболее сильны и отчетливы. По-видимому, они обладают каким-то остаточным разумом… Еще есть теория, что материи как таковой не существует, все во Вселенной по сути – энергия…
Камарин повернулся, чтобы уйти. Только экскурсии с сумасшедшим ему не хватало.
И вдруг рядом хлопнула полуоткрытая дверь. Сама по себе медленно-медленно отворилась и снова с треском захлопнулась. Камарин еще ничего толком не осознал, но за шиворот ему словно сыпанули ледяного бисера, мелко ссыпавшегося вдоль позвоночника.
– Все, началось, – с удовлетворением заявил Глинский. – Похоже, вы сумели вызвать их интерес. На меня одного они уже, увы, далеко не всегда реагируют, совсем привыкли, а материал снимать дальше надо…
– Кто – они? – тихо спросил Камарин, уже, впрочем, зная ответ.
– Мои псевдоактеры, – с холодной иронией усмехнулся Глинский.
С другой стороны хлопнула еще одна дверь, и еще; в пустых офисах послышались голоса.
– Здесь их увидеть довольно просто, – прибавил Глинский. – Они хотят быть увиденными. Потому что их убили. Сожгли заживо. Они хотят, чтобы об этом узнали. Пойдемте.
Камарин, не слушая, бросился к выходу, но отскочил обратно, потому что прямо на него, будто не видя, шел величавый мужчина с седой бородкой, в высоком белом колпаке и в медхалате, какие носили в советские времена. Врач выглядел… нормально. Не просвечивал или что-то такое. Но повернул в одно из пустых офисных помещений и просто… исчез.
Камарин беззвучно открыл рот и попятился обратно. Он не псих. Но он видел то, что видел.
– Так вы снимаете призраков. – Ему просто нужно было это произнести, чтобы до конца осознать. – Почему, как?..
– Как это началось? – Глинский слегка пожал плечами, качнув неповоротливой видеокамерой. – Когда-то я мечтал снимать кино, как и вы. Жизнь не позволила. Кстати, фамилия у меня, как вы понимаете, вовсе не Глинский, обычная дурацкая фамилия… Устроился сюда охранником. Сначала пугался всего, думал, спятил. Хотел уволиться. Потом понял, что показываются они не всем… что-то им от меня нужно. Я понял, что. И начал снимать. Но я им несколько приелся в качестве зрителя. А тут вы…
Все время, пока спутник говорил, Камарин по инерции шел вперед по коридору, и пространство вокруг неуловимо менялось – даже нельзя было сказать, в какой именно момент узкий гипсокартонный коридор превратился в просторный, крашенный масляной краской, а небольшие двери, исчадия убогого евроремонта, стали широкими, рассчитанными на то, чтобы провезти тяжелые больничные койки-каталки.
– Отчасти я даже привык ко всему этому, – прошептал рядом Глинский. – Но полностью привыкнуть невозможно.
Они медленно направились дальше. Все кругом было сумрачно-серое, с неожиданными и в чем-то неправильными источниками блеклого туманного освещения, и стены время от времени будто плыли в легкой дымке, слегка деформировались, чтобы затем снова вернуться на место. Камарин инстинктивно держался совсем рядом со спутником, почти вплотную: черт побери, ему было по-настоящему страшно, кроме того, донимало все-таки неслабое подозрение, что он попросту сошел с ума. Невольно он заглядывал в палаты – двери во всех стояли распахнутыми. Койки там были поставлены так тесно, что между ними можно было пройти только боком. И на всех койках лежали люди. Инвалиды. Калеки. В голову приходило страшное в своем цинизме слово «обрубки». У всех пациентов здесь не хватало как минимум двух конечностей. Больше всего повезло тем, у кого была рука и нога, такие сами передвигались с помощью костыля, неуклюжие, но приноровившись ловить равновесие, наклоняясь под странными углами. У большинства же отсутствовали либо обе руки, либо обе ноги. Страшнее всего было смотреть на тех, кому оторвало – или ампутировали – все конечности. Такие лежали на кроватях, укрытые крохотными, детскими одеялами, похожие не то на человеческих личинок, не то на младенцев-переростков, и их непомерно большие головы покоились на высоких подушках – угловатые, плохо выбритые головы взрослых, повидавших на своем веку все самое ужасное людей, с морщинистой задубевшей кожей и почему-то очень ясными, лучащимися глазами, словно наполненными битым хрусталем.
От всего увиденного Камарин не чувствовал собственных ног. Он вспомнил недавний свой сериал про войну, и, если бы можно было умереть от стыда, он, наверное, издох бы на месте. Он поймал себя на том, что, как ребенок, ловит за локоть Глинского, боясь потеряться в невозможной псевдореальности прошлого.
– Почему… почему вы думаете, что их убили? – пробормотал Камарин. – Они же воевали, они же герои, за что их убивать…
– Да кто теперь разберется, почему и за что, – сухо ответил Глинский. От его мягкой стелющейся вежливости не осталось и следа. – Мне самому интересно. Пожар они мне еще ни разу не показывали. Иногда мне кажется, они показывают только то, что моя психика способна выдержать.