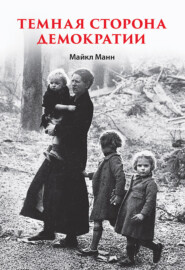По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фашисты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Массовое движение, называющее себя фашизмом, возникло и набрало силу в Европе в период между двумя мировыми войнами. Изучая это явление, я буду привязывать его к месту и времени – к «европейской эпохе», по выражению Итуэлла (Eatwell, 2001), хотя, быть может, отголоски фашизма были слышны и на других континентах. Европа в этот период переживала четыре серьезных кризиса: последствия опустошительной мировой (но, по сути, в основном европейской) войны – войны между массовыми призывными армиями; ожесточенная классовая борьба, усиленная Великой депрессией; политический кризис, вызванный ускоренным переходом многих стран к демократии и национальному государству; культурное ощущение кризиса и упадка цивилизации. Сам фашизм признавал эти кризисы, громогласно обещая разрешить все четыре. К тому же все четыре кризиса сыграли важную роль в ослаблении способности элит управлять по-старому.
Это не противоречит тому, что в разных странах фашизм возникал по разным причинам: здесь из-за поражения в войне, там из-за Великой депрессии. Но сильнее всего фашизм становился там, где сочетались все четыре. Вопрос здесь в степени: до какой степени тот или иной кризис – экономический, военный, политический и идеологический – вносил свой вклад в появление и развитие фашизма? Подробнее мы поговорим об этом в главе 2. По всей видимости, эти четыре кризиса стали необходимыми предпосылками фашизма. Без них фашизма бы не было. Однако, как видно, ни одного из них по отдельности не было достаточно. Большинство стран справились с кризисом, не превращаясь в органические национальные государства – не говоря уж о фашизме. Это выводит нас на второй уровень анализа, а именно к вопросу: в каких местах возник фашизм?
Макрогеография: половина Европы
В межвоенный период, как показано далее, на карте 2.1 (с. 64), почти во всей Центральной, Южной и Восточной Европе правили достаточно схожие авторитарные правые режимы; фашизм представлял собой одну из их разновидностей. На северо-западе континента сторонниками подобных режимов были лишь незначительные меньшинства. Профашистские движения имелись и в наиболее экономически развитых странах на других континентах – в Японии, Южной Африке, Боливии, Бразилии и Аргентине. Европейский фашизм получал здесь определенный резонанс, хотя до какой степени – вопрос спорный (Payne, 1995: гл. 10; Larsen, 2001). На мой взгляд, ни в одной из этих неевропейских стран нельзя найти сочетания всех предпосылок появления фашизма, перечисленных выше. В Японии, например, имелся чрезвычайно сильный национал-этатизм, создавший, пожалуй, самую проработанную в мире квазифашистскую экономическую теорию (Gao, 1997: гл. 2–3). Однако Японии недоставало парамилитаризма, массового движения снизу (сравнение Японии с Европой см.: Brooker, 1991). В том, что принято называть японским «фашизмом», господствовал милитаризм, а не парамилитаризм. Аргентина и Бразилия, напротив, порождали массовые популистские движения авторитарного типа, с этатистскими и радикальными тенденциями, однако им не хватало националистических чисток. В течение всего межвоенного периода мы встречаем теоретиков, которые читали Барре, Муссолини, Гитлера и так далее, а затем старались приспособить их идеи к местным условиям, создавая своего рода квазифашистские учения. Так, в Индии Голваркар перенял расовые теории Гитлера и использовал их в своей концепции чистого индуистского теократического государства. Сложим эти теории с парамилитарными отрядами индуистской праворадикальной организации «Раштрия сваямсевак сангх» – и получим нечто очень близкое к нацизму (Jaffrelot, 1996). Однако движение это в 1930-х было мизерным, как и почти все профашистские партии и ополчения той эпохи. Лишь одним континентом – Европой – фашизм овладел почти полностью.
Почему же в одной половине Европы победил авторитарный этатизм, а в другой – либеральная демократия? Очевидно, проблема не в каком-то общем кризисе, вроде Великой депрессии или недостатков либерализма: такой кризис сказался бы на всей Европе, а не на ее половине. Основная разница была в поведении консервативного, «старорежимного» политического крыла и класса собственников. Да, именно здесь классовый вопрос сыграл важнейшую, хоть и довольно странную роль. На половине континента правящие классы обратились к более жестким режимам, надеясь с их помощью защититься от двух тесно связанных угроз – народных восстаний и своих оппонентов, левых политиков. Однако рациональным такое поведение назвать нельзя. Они значительно преувеличивали эти угрозы и отказывались от тех более безопасных мер противостояния им, что приняли их коллеги на северо-западе Европы. Их реакция была несоразмерной: можно сказать, что они слишком рано и слишком резко схватились за оружие. Объяснить эту загадку – нерациональное, по всей видимости, поведение целого класса – одна из главнейших задач моей книги. Это объяснение необходимо нам, чтобы понять макрорегиональную обстановку авторитарного национал-этатизма, в которой процветал фашизм. Но это не объясняет нам самого появления фашизма: ведь он стал массовым движением лишь в нескольких странах – и произошло это вовсе не по воле правящих классов.
География: пять фашистских стран
Почему именно у итальянцев, немцев, австрийцев, венгров и румын фашизм получил массовую популярность, какой не имел в соседних странах? Верно, что в нескольких регионах других стран – в Судетах, Словакии, на Украине, в Хорватии – впоследствии возникли довольно многочисленные квазифашистские движения. Их я рассматриваю в следующей своей книге. Однако в других странах и регионах фашистов было совсем немного. Нельзя сказать, как говорят часто, что фашизм имел успех лишь в более развитых странах или в великих державах центра, востока и юга Европы. Этот аргумент связан с чрезмерной сосредоточенностью на Германии и Италии. Венгрия и Румыния великими державами вовсе не были, это были скорее отсталые страны – и что же? Некоторые авторы уверяют, что именно отсталость и породила в них фашизм (Berend, 1998). Однако фашизм – как и социализм – был привлекателен для очень и очень многих, а значит, дело тут не в развитой или отсталой экономике. Чтобы понять, что произошло, нам необходимо найти между этими странами нечто общее – и это будет явно не уровень развития. Но и это само по себе не даст удовлетворительного ответа. Ведь и в этих странах фашистами становились далеко не все – скорее уж меньшинство населения. Кто были эти люди и почему они стали фашистами?
География: социальная база фашизма
Какие же социальные группы в этих странах больше всего привлекал фашизм? На многих страницах, на протяжении нескольких глав, я исследую социальное происхождение фашистских лидеров, боевиков, партийцев, попутчиков, заговорщиков и избирателей – сравнивая их (там, где это возможно) с аналогичными представителями других политических движений. Кто они были: мужчины, женщины, какого возраста, военные, штатские, горожане, сельские жители, верующие, атеисты, богатые, бедные; где родились, чем занимались, к какому классу принадлежали? С благодарностью я проштудировал работы ученых из многих стран, стремясь собрать богатейшую из ныне существующих базу данных по фашистам. В этих данных можно различить три социальные базы, наиболее чутко воспринявшие перечисленные мною ранее ценности фашистов; именно на их основе и возникали фашистские движения. Разумеется, социальные базы фашистов не возникали мгновенно и в готовом виде. Фашистам необходимо было их «открывать», а затем работать над ними – организовывать, убеждать, подкупать, принуждать. Одним фашистам это удавалось лучше, другим хуже. Некоторые фашисты неверно определяли свою социальную базу, другие натыкались на нее почти случайно (так нацисты наткнулись на немецкий протестантизм). Фашистские движения были разнородны, так что и социальные базы их несколько различались. Но среди всех этих случайностей и вариаций мы можем различить три общие модели массовой поддержки. Эта поддержка исходила от миллионов людей, голосовавших за фашистов, и тысяч вступавших в фашистские организации. И то и другое – важнейшие, хоть и очень разнородные факторы успеха фашистов. Для своих нынешних целей, однако, я объединяю эти два вида поддержки в один.
Сторонники парамилитаризма. Во всех странах фашизм поддерживали последовательно два молодых поколения, повзрослевших между Первой мировой войной и концом 1930-х. Их юности и идеализму импонировали ценности фашизма, преподносившиеся как современные и в то же время нравственные. Особенно легко распространялись фашистские идеи через два института социализации молодых людей: среднее и высшее образование, внушавшее идеи морального прогресса, – и армию, воспитывавшую в молодежи милитаризм. Фашизм апеллировал в первую очередь к молодым мужчинам – поэтому в нем ярко проявлялся дух «мачизма», поощряющий браваду и не вполне контролируемое насилие; в мирное время милитаризм его легко превращался в парамилитаризм. Характер фашизма определяли молодые мужчины, социализировавшиеся в институтах, где оправдание насилия и даже убийства было самым обычным делом. Однако схожесть ценностей милитаризма и парамилитаризма всегда давала фашизму возможность обращаться к самим вооруженным силам: не настолько, чтобы поднять их на мятеж, но настолько, чтобы внушить военным такую симпатию к себе, которая в решительный момент сможет парализовать армию.
Желающие покончить с классовой борьбой. Нигде фашизм не был ни исключительно буржуазным, ни исключительно мелкобуржуазным. Да, в Италии и, пожалуй, в Австрии у него чувствовались определенные классовые симпатии. Но в Германии после 1930 г. (если мы причисляем к нацистской партии отряды СА и СС) подобных симпатий не было. Фашистские перевороты в этих странах поддержали и высшие классы. В то же время румынские и венгерские фашисты особой поддержкой высших классов не пользовались, а сторонников себе вербовали скорее из пролетарских, чем из буржуазных кругов. Таким образом, классовый состав фашистского движения сложен и в разных странах заметно различается. Более устойчивые тенденции связаны с занятостью. По-видимому, чаще фашисты приходили оттуда, где не велась организованная борьба между трудом и капиталом. Реже это были городские, фабричные и заводские рабочие (исключение составляют Будапешт и Бухарест, где рабочие традиционно поддерживали «сильное государство»). Как правило, это не предприниматели, мелкие или крупные, и не управленческий слой. Однако нельзя назвать фашистов и маргиналами, людьми без корней. В межвоенный период их социальное положение было более или менее стабильно. Но со своей несколько отстраненной точки зрения они взирали на классовую борьбу с отвращением – и рады были отдать голоса за движение, обещающее положить ей конец. Разумеется, в большинстве случаев конца так и не случилось; и многие авторы отмечают напряжение между более радикальными рядовыми фашистами и более оппортунистическими лидерами, готовыми пойти на сговор с элитами. Так же и капиталисты, и представители «старого порядка» в разной мере готовы были идти на компромисс с этой новой для них идеологией. Однако, если мы принимаем убеждения фашистов всерьез, из этого следует, что фашизм был привлекателен именно для тех, кто глядел на классовую борьбу извне, восклицая: «Чума на оба ваши дома!»
Сторонники сильного национального государства. Бэкграунд фашистов выглядит неоднородным. Часто встречается военный опыт, высшее образование, работа на государство или военная служба, определенное географическое происхождение или религиозные симпатии. Для многих наблюдателей это подтверждает, что фашизм – движение «лоскутное» (таков самый распространенный взгляд на нацизм, как мы увидим в главе 4). Однако у всех этих пестрых атрибутов есть нечто общее: фашисты – «соль» нации и государства. Некоторые «национально-государственные» локации одинаковы во всех странах: прежде всего, это военные и ветераны, но также и госслужащие, учителя и работники физического труда в государственном секторе. Почти во всех странах, где фашизм был распространен массово, доля именно этих людей в фашистских движениях непропорционально высока. Другие характеристики варьируются от страны к стране. Так, индустриализацию столиц и их пригородов в Венгрии и особенно в Румынии проводило государство – поэтому здесь рабочие, даже трудившиеся на частных предприятиях, отличались более этатистскими взглядами. Религия важна почти везде – и почти везде поддерживает национал-этатизм (кроме Италии, где религия транснациональна). Евангелическая церковь в Германии 1925–1935 гг., православные верующие и духовенство в Румынии, католики в «австрофашизме» – все они поддержали фашизм, поскольку религия для них была тесно связана с чаемым национальным государством. В Германии роль религии менялась по мере преображения самого нацизма: среди исполнителей геноцида, в отличие от ранних избирателей нацистов, мы видим непропорционально большое число бывших католиков (этот феномен я продемонстрирую и объясню в своей следующей книге). В некоторых странах фашисты происходили в основном из исторического центра народа или государства; но чаще это были уроженцы «угрожаемых» приграничных территорий или беженцы с «утраченных земель». Далее мы убедимся, что все они были именно сторонниками сильного национального государства.
Очевидно, не все фашисты были выходцами из этих трех групп и не все представители этих групп были фашистами. Ценности и характер фашистов также не оставались неизменными. Простодушные избиратели, которые, подумав минут десять, голосовали за фашистов, ничем не напоминали элиту, годами выстраивавшую с фашистами отношения и заключавшую сделки. И ни те ни другие не были похожи на активных членов движения или боевиков, отдававших движению большую часть своего времени, энергии, а порой и рисковавших ради него жизнью. Кем же были они, эти активные фашисты?
Микроуровень: фашистские движения
Вступая в движение, фашист еще не был фашистом в полном смысле слова. Войти в движение можно было, даже если представляешь его себе довольно смутно: поддерживаешь несколько лозунгов, симпатизируешь харизматичному фюреру или дуче или просто идешь туда за компанию с друзьями. Большинство фашистов присоединялись к движению в юности – неженатыми, неопытными, с очень небольшим опытом взрослой общественной жизни. Фашистские партии и боевые отряды становились для них мощными средствами социализации. Эти движения дарили своим адептам гордое чувство исключительности и власти, строгую иерархию, культ великого вождя. Приказы надо было исполнять неукоснительно, дисциплине подчиняться безоговорочно. Прежде всего каждый должен был вносить свою лепту в общее дело. Так рождалось теплое чувство товарищества. Если движение запрещали, оно уходило в подполье, и общая тайна и опасность сплачивали его участников. Многие активисты теряли работу, попадали в тюрьму, бежали из страны. Это пугало и отталкивало слабых и робких – но лишь сильнее сплачивало оставшихся.
Так же действовал и парамилитаризм. В некоторых фашистских движениях (раннем итальянском или румынском) боевые отряды и были движением; в других (как у нацистов) они существовали наряду с партийными институтами. Боевики не щадили времени и сил, подчинялись жесткой дисциплине, но получали право на ограниченное групповое насилие. От них много требовали, но само это давление доставляло им радость. Физические лишения и опасности, суровые наказания, острое чувство товарищества, очень активная коллективная социальная жизнь – все это создавало для них своего рода «клетку», тотальный институт, по выражению Гофмана. Разумеется, кого-то это не устраивало; многие уходили. Но те, кто оставался, приобретали в этих боевых отрядах опыт фашистской социализации. Например, с 1934 по 1938 г. правительство преследовало австрийских нацистов. Многие бежали в Германию, вступили в СС или в Австрийский легион и превратились в тесно сплоченное сообщество: вместе работали, вместе пили в нацистских пивных, вместе спали в нацистских казармах[10 - Столь тесная мужская дружба время от времени носила гомосексуальный оттенок, хотя данный аспект фашизма не был в достаточной мере задокументирован. Хорошо известно, что нацистские лидеры во время путча Рёма стали ярыми противниками гомосексуалистов. В личных делах СС время от времени фигурировали свидетельства гомосексуализма, с намеком на то, что организация может, сыграв на уязвимости одного из своих членов, заставить его выполнять «тяжелую работу» (то есть стать убийцей).]. Из этих «социальных клеток» фашистские лидеры и рекрутировали надежных, закаленных бойцов для выполнения особенно жестоких задач.
К насилию они были готовы. Для многих, причастившихся фашизму в юности, единственным известным взрослым образом жизни осталась война. Первое («фронтовое») поколение фашистов почти все побывало на фронтах Первой мировой; второе («домашнее») поколение во время войны еще училось в школе, хотя многие рвались в бой и исполнили свою мечту позднее, в парамилитарных отрядах, совершавших вылазки и налеты по всей Европе в первые послевоенные годы. Третье поколение фашистских рекрутов о войне знало уже лишь по рассказам старших – зато с восторгом отдавалось стихии уличного насилия. Старшие члены движения, уже прошедшие школу «насилия без войны», стали их наставниками. Более того: успешное и безнаказанное насилие вызывает у тех, кто его совершает, своего рода катарсис, чувство очищения и освобождения. Они выходят за рамки привычной морали, нарушают закон, проходят точку невозврата: все это усиливает коллективное ощущение, что они – элита, особые люди, над которыми обычные правила поведения не властны. Для этих молодых людей эффект насилия подкреплялся еще двумя отличительными свойствами их «банд»: мачистскими представлениями о мужественности, среди которых способность к насилию играла не последнюю роль, и обильными возлияниями, снимавшими все тормоза и запреты. Трудно представить себе фашистских боевиков без потасовок в пивных. Благодаря всему этому, прибегнув к насилию один раз, легче было обращаться к нему снова и снова.
Карьера в фашистском движении приносила материальную и статусную выгоду. По мере того как движение крепло и разрасталось, перед его участниками открывались новые горизонты власти, обогащения, социального роста. Однако карьера фашиста требовала не только умения приспосабливаться. Большинство в фашистских элитах составляли «закаленные» бойцы. Надежные и образованные становились «офицерами» фашизма, не столь образованные – «унтер-офицерами». На большинстве уровней «закаленные» фашисты превращались в элиту, отдающую приказы, способную социализировать новичков и обучить их «нормальному» фашистскому поведению. Фашистские движения шли по разным траекториям. Небольшие организации в северо-западной Европе зачастую возникали и быстро исчезали, не оставляя особого следа. Получив по зубам в первой массовой драке, многие благоразумно решали, что лучше им держаться в стороне. Но в пяти основных фашистских странах невозможно понять успех горстки в несколько тысяч фашистов, при равнодушии или неприязни миллионов, если не учитывать их чрезвычайно активную и жестокую гражданскую позицию.
Краткий обзор этой книги
Концептуальная рамка, очерченная выше, помогает нам понять, кем были фашисты. Дальше я расскажу о социальных кризисах и ответах на эти кризисы со стороны элит, о тысячах людей, присоединившихся к фашистским движениям, и миллионах тех, кто их поддержал. В следующей главе я рассматриваю межвоенные кризисы на макроуровне: почему половина Европы приняла фашизм, а другая половина встретила его враждебно? Думаю, ответ на этот вопрос мне известен; поэтому нет нужды рассматривать различия между враждебными фашизму странами северо-западной Европы. Вместо этого следующие семь глав я посвящаю другой половине континента – и пытаюсь объяснить, почему в одних странах восторжествовал фашизм, в других – иные авторитарные правые движения. Исходя из этого вопроса я выбрал для исследования шесть стран. В Италии, Германии (которой отведено две главы) и Австрии фашизм возобладал и пришел к власти без посторонней помощи. Еще в двух – Венгрии и Румынии – фашисты играли на равных в смертельной игре с другими авторитарными течениями. Наконец, последняя страна, Испания, где борьба между демократами и сторонниками авторитаризма проходила наиболее жестко, покажет нам, что происходило, когда авторитаризм оттеснял фашизм в тень. По методологии моя работа представляет собой почти исключительно вторичный анализ исследований, предпринятых другими учеными, у коих я в огромном долгу и безмерно им благодарен. Анализ фашизма в разных странах позволит мне сформулировать более общее объяснение возникновения фашистских движений и их прихода к власти: этому и будет посвящена заключительная глава.
Глава 2
Объяснение межвоенного подъема авторитаризма и фашизма
Введение: формирование сильных национальных государств
Чтобы объяснить фашизм, необходимо рассмотреть его в историческом контексте. На протяжении трех десятилетий он был лишь одним из вариантов более широкого политического идеала – авторитарного национального государства. А оно, в свою очередь, было лишь одной из версий господствующего политического идеала современности – сильного национального государства. Фашизм получил распространение только в Европе, где был встроен в единый географический блок авторитарных режимов. Поскольку другие европейские страны оставались либерально-демократическими, можно говорить о «двух Европах». Кроме того, период взрывного роста фашизма отмечен экономическим, военным, политическим и идеологическим кризисами. Итак, в этой главе мы обсудим формирование и подъем в Европе сильных национальных государств на фоне этих четырех кризисов.
Сила государства имеет два измерения: инфраструктурное и деспотическое (Mann, 1988). Эффективная инфраструктурная власть – это возможность государства проводить политику через инфрастуктуры, пронизывающие его территории. Инфраструктурно сильное государство может быть как демократическим, так и авторитарным. Демократические США обладают более сильной инфраструктурой, чем авторитарный СССР. Этот тип власти – власть «через» людей, а не «над» людьми. Но деспотическая власть дает государственным элитам возможность принимать решения вопреки воле своих граждан или подданных. Практически у всех современных государств инфраструктурная власть выше, чем у их исторических предшественников, а многие из них обладают и значительной деспотической властью. Сочетание значительного объема той и другой власти характерно для авторитарных государств ХХ века, которые я здесь и попытаюсь объяснить. Как возникало такое сочетание? Вот ответ: его породила чрезмерная приверженность к обычным политическим идеалам современности.
К началу ХХ века в Европе уже имелись суверенные национальные государства. Иначе говоря, каждое из этих государств претендовало на суверенную власть над определенными территориями, получая свою легитимность от «народа» или «нации», на этих территориях обитающей (хотя многие из них, разумеется, оставались мультиэтничными). Однако национальные государства молоды. Разумеется, уже с XVI—XVII веков монархи во внешней политике претендовали на суверенную власть, возникали «дворянские нации», а в религиозных войнах выковывались «нации духа». Но основная часть населения влилась в «нацию» совсем недавно. Вплоть до XVIII века государство, в сущности, делало очень немногое. Оно вело переговоры и локальные войны с соседними государствами, вершило суд и расправу на высшем уровне. Формально регулировало внешнюю торговлю и владело монополиями, которые, как правило, сдавало в аренду частным лицам. Некоторые государства контролировали цену на зерно, чтобы предотвратить голодные бунты. Только опираясь на устойчивую и послушную церковь, государство могло проникнуть в жизнь общества за пределами столицы и собственно королевских земель. Однако в XVIII веке государства монополизировали право на военное насилие и начали бурно развиваться. Около 1700 г. государство присваивало приблизительно 5 % ВВП в мирное время и 10 % во время войны. В 1760-е гг. этот уровень вырос до 15 % и 25 %. В 1810-е гг. – до 25 % и 35 % соответственно, а 5 % населения стали военнообязанными. Эти цифры (Mann, 1993, гл. 11) схожи с данными в период двух мировых войн и с высочайшими современными ставками налогообложения – в Израиле и в Северной Корее. Это сравнение позволяет нам понять размах изменений, произошедших в XVIII веке. Почти незаметное ранее, государство явило себя подданным в полный рост: сборщики налогов и армейские вербовщики вошли в каждый дом. Подданные очнулись от прежнего политического безразличия и начали требовать себе представительских прав. Так родилось членство в нации, гражданство – первый из политических идеалов современности.
Однако даже в XIX веке немногие видели в государстве путь к достижению важных общественных целей. Свобода обычно воспринималась как свобода от государства, а не благодаря ему. Лишь якобинцы эпохи Великой Французской революции сумели сформулировать представление о сильном государстве и активном гражданском участии как социальном и моральном идеале. Якобинцы потерпели поражение, но государство пошло окольным путем и начало укрепляться за счет развития индустриального капитализма. Государство оплачивало строительство дорог и каналов, брало на себя попечение о бедняках. Во Франции государство участвовало в общественных проектах в большей степени, чем в Великобритании или США, а в Германии протекционистская теория Фридриха Листа стала ответом на вызов, брошенный свободным рынком. К концу XIX века возникли новые экономические теории, требовавшие большего вмешательства государства. К этому времени государство строило железные дороги, занималось массовым образованием, здравоохранением, появились и первые социальные программы. Все это означало рост инфраструктурной власти. Народ охотно принимал эти блага, но не слишком охотно платил налоги, все больше людей начинали интересоваться народным представительством и правами граждан – словом, стремились сократить деспотическую власть государства.
Такая активность государства привела и еще к одному непреднамеренному результату – к возникновению консолидированных сетей общественного взаимодействия, «гражданских обществ», ограниченных государственными территориями. Отсюда родилось и чувство национальной общности: не столько идеология национализма, сколько понимание, что каждый из нас живет среди себе подобных, в одном обществе, под властью одного государства. В этот же период рос и укреплялся и откровенный национализм. В странах северо-западной Европы и в европейских колониях, где впервые утвердилась «власть народа», под «народом» поначалу понимались исключительно мужчины-собственники: за ними – дворянами, купцами, фабрикантами, ремесленниками и так далее – признавались различные интересы. Это сословие граждан в полном смысле слова было внутренне стратифицировано и существовало «поверх» низших классов, обладавших лишь некоторыми, далеко не всеми гражданскими правами. Народ или нация противопоставляли себя реакционным старым режимам, однако сами были далеко не однородны – и не обязательно враждебны другим нациям.
Однако в XIX веке выкристаллизовался и иной, более агрессивный национализм (Mommsen, 1990). До некоторой степени его можно объяснить тем, что представительское правительство начало восприниматься как власть всего народа, сообща владеющего свойствами и добродетелями, необходимыми гражданину. Особенно распространилось это представление на востоке Европы, где царили многонациональные династические империи: Османская империя, империи Габсбургов и Романовых. Конфликты между имперской властью и местными жителями под влиянием демократических требований претворились здесь в конфликты между предполагаемыми этническими/национальными общинами. Местные элиты, лишенные привилегий, требовали представительских прав для себя, но, сталкиваясь с давлением снизу, старались мобилизовать «весь» народ против имперской этничности и ее местных этнических клиентел. Так сбывались слова Коррадини о пролетарской нации, восстающей против своих угнетателей. Хорваты или словенцы ненавидели турецкое или сербское господство; румыны терпеть не могли венгров; словаки косо смотрели на чехов; и все они вместе проклинали господствующих немцев, русских или турок. Имперские нации – немцы, русские, турки (а впоследствии и венгры) отвечали им собственным контрнационализмом. Евреи, этот рассеянный по земле народ, повсеместно воспринимавшийся как угроза нации, встречали неприязнь со всех сторон. Однако антисемитизм был тесно увязан с другими националистическими конфликтами: чешским антисемитизмом двигали антинемецкие чувства, словацким – антимадьярские, а мадьярский и австрийский антисемитизм питался мечтами об имперском возрождении. Во всех случаях евреев ненавидели, ибо видели в них союзников национального врага. Национализм, поначалу идеалистический внутренний союз против феодальных правителей, быстро становился агрессивным и внутри, и снаружи, направленным против других наций.
Так возник органический идеал, в противоположность либеральному идеалу стратифицированного национального государства (или «этнический национализм» в противоположность «гражданскому»). Рассмотрим Австрию (Schmidt-Hartmann, 1988). В 1882-м трое молодых австрийских политиков разработали «Линцевскую программу» – теоретическую основу будущей Немецкой народной партии. Программа сочетала в себе немецкий национализм, всеобщее избирательное право и прогрессивное социальное законодательство. Она отвергала и либерализм, и капитализм свободного рынка, и марксистский социализм. Трое политиков заявили: в то время как либерализм отстаивает порядок вещей, в котором конфликт интересов возведен в абсолют, они предпочитают защищать «сущность» демократии. Легитимность власти, продолжали они, основана на единстве народа, на «общем благе», на «национальном интересе». Партия так и не появилась на свет. Троица раскололась, и каждый занялся созданием собственной партии. Виктор Адлер стал лидером социал-демократов, Карл Люгер – христианских социалистов, а Георг фон Шенерер – основателем будущей Всегерманской партии: трех массовых политических организаций межвоенной Австрии, породивших широкие народные движения, два из которых были фашистскими (подробнее об этом в главе 6).
Эти три молодых австрийца отстаивали органическую концепцию народа и государства. Народ, говорили они, един и неделим, целостен, внутренне неразделен. Поэтому государство не должно основываться на институционализации конфликта противоборствующих интересов. Единое национальное движение должно представлять весь народ – и преодолевать конфликты интересов между социальными группами внутри народа. Классовые конфликты, профессиональные интересы необходимо не примирять, а превосходить. Звучит красиво – но у этого прекрасного идеала есть своя темная сторона (намного подробнее мы обсудим ее в следующем томе). В любом государстве найдутся меньшинства со своими отличительными культурными особенностями. У некоторых из них есть культурные связи с тем или иным иностранным государством, где их этничность доминирует, которое они считают своей родиной. Органические националисты смотрят на таких людей с подозрением. Им представляется, что лояльность представителей меньшинств неполна, а значит, они не могут быть полноправными членами нации. Так органические националисты приходят к вере в существование: 1) общего национального характера, души или духа, отличного от духа других народов; 2) исключительного права государства на выражение этого духа нации; и 3) права исключать меньшинства с иными национальными характерами, которые только ослабляют нацию.
Все это знакомая нам история «двойного подъема» наций и современных государств – история, к описанию которой и я приложил руку (см. Mann, 1986, 1993: гл. 10–11). Однако укрепление внутренних национальных связей шло одновременно с развитием транснациональных межгосударственных отношений – индустриального капитализма и таких сопутствующих ему идеологий, как либерализм и социализм, а также с расширением культурных связей, подпитываемых представлением о европейской/христианской/ «белой» коллективной идентичности. Собственность повсюду оставалась преимущественно частной. Ни одно государство практически не вмешивалось в экономику, за исключением протекционистских тарифов на импорт, развития коммуникаций (особенно железных дорог) и регулирования банковской деятельности. В европейской глубинке потихоньку складывалось понятие государственных фондов развития, однако до 1914 г. эти фонды особой роли не играли. Таким образом, даже в период бурного развития национального государства экономика, по большей части, оставалась вне сферы его влияния. Большего от государства почти никто не ожидал.
Не ожидали большего и политики. До 1914 г. левые в большинстве своем были сторонниками децентрализованной демократии, а к государству относились амбивалентно. На крайне левом фланге остатки якобинства уступили место глубокому недоверию ко всем существующим государствам и поддерживающему их национализму. Социалистическая идеология признавала лишь транснациональные классы (хотя на практике случалось по-разному). Красноречивое молчание Маркса о государстве после революции, его бойкие заявления о том, что государство «отомрет», а национальности у рабочего класса нет вовсе, – яркий пример тогдашнего равнодушия левых к новой проблематике национального государства. Марксисты надеялись воспользоваться государством для изменения формы собственности, а затем от него отказаться. Анархо-синдикалисты считали, что вопрос государства для левых безопаснее вообще обходить стороной. В сущности, левые хотели, чтобы государство боролось с бедностью и вводило бесплатное образование. Однако довоенные социальные реформы проводили, как правило, не социалисты, а «буржуазные» леволибералы, в государстве чувствовавшие себя как дома. Так что увеличения мощи государства в целях экономического, культурного и нравственного развития желали не марксисты или левые синдикалисты, а немецкие «социалисты на [профессорской] кафедре», британские «новые либералы», французские республиканские радикалы, русское либеральное земство. Но для всех них увеличение роли государства было неотделимо от роста демократии. Деспотические функции государства они стремились сократить.
Иначе обстояло дело на правом фланге, в крайних националистических движениях, возникших еще до 1914 г. Они требовали от старых режимов национальной мобилизации для победы над разрушительными силами либерализма и социализма. Штернхелл подчеркивает: многие фашистские идеи имели хождение и до 1914 г. Однако, хоть они и увлекали некоторых интеллектуалов, массовости им недоставало; массовое движение изначально принадлежало левым партиям, успех которых затем удалось скопировать некоторым националистам. Старые режимы и церкви, контролирующие большинство государств, и в них – большинство избирателей, на массовую мобилизацию смотрели с подозрением. Народ безмолвствовал; от его имени говорили элиты. Как подчеркивает Эли (Eley, 1980), правые националистические группы влияния в Германии начинали тревожить местных консерваторов и дестабилизировать немецкую внешнюю политику, однако роль их во внутренней политике была куда скромнее. Самое массовое националистическое движение сложилось, быть может, в Австрии (Schorske, 1981: гл. 3). Хотя функции государства расширялись, большинство консерваторов вряд ли видели в государстве нечто большее, чем способ поддержания порядка и присоединения новых территорий. Правые, как и левые, не видели в государстве «носителя нравственного проекта» (по звучному определению Переса-Диаса). Националисты начинали преследовать меньшинства, раздавались голоса с требованием увеличить инфраструктурную власть государства. Деспотизм и авторитаризм воспринимались как характеристики «старых режимов», которые неизбежно отомрут с наступлением нового века. Немногие в 1914 г. могли бы предвидеть не только наступление фашизма, но и появление новых авторитарных государств.
Если бы Европе удалось сохранить мир, безусловно, расширение функций государства и его инфраструктурной власти продолжалось бы. Индустриальный капитализм по-прежнему нуждался бы в помощи государства. Получение избирательных прав рабочими и женщинами усилило бы социальную политику. В любом случае, сложился бы умеренный национал-этатизм, на полупериферии дополненный официальными идеологиями «догоняющего развития». Но вмешалась Великая Война. Она милитаризировала национальное государство и предложила экономическую модель того, как государственное планирование и активное вмешательство государства поможет достичь экономического успеха. Она предложила парамилитаристскую модель коллективного общественного действия, ослабила традиционный консерватизм, уничтожила главных соперников национального государства – многонациональные империи, усилила агрессивный национализм, направленный против «врагов». С приходом к власти в 1916 г. Ллойд-Джорджа, Клемансо и Людендорфа стало ясно, что новая война будет тотальной – не войной дворянских старых режимов, а схваткой целых народов, отмобилизованных войной и военной экономикой. Промышленники, профсоюзные лидеры, гражданские чиновники, генералы, политики стали винтиками одной государственной машины. В России, Австро-Венгрии и Италии это свершилось не слишком эффективно, и вина за это была возложена на мощь старых режимов (а также «непатриотическую» позицию местных социалистов). Даже невоюющие страны Северной Европы из-за блокады и подводной войны вынуждены были обратиться к жесткому государственному регулированию (в том числе к вводу продовольственных карточек – самому красноречивому примеру вмешательства государства в экономику). В Европе лишь нейтральные Испания и Португалия продолжали жить как прежде, сохраняя старые режимы и слабую государственность. Во всех остальных странах свободный рынок и частное предпринимательство были подчинены общенациональным целям. Так родился современный этатизм, а с ним и современный национализм.
После войны мобилизационные структуры военного времени были демонтированы, но инфраструктурно мощное государство осталось нетронутым. Было расширено избирательное право, ожидалось, что правительства возьмут на себя борьбу с послевоенной безработицей и жилищным кризисом. К политическому гражданству добавилось гражданство социальное. Среди технократов, в том числе экономистов, набирали популярность амбициозные идеи социального переустройства и экономического развития. На левом фланге социалисты возобладали над анархо-синдикалистами (за исключением нейтральной Испании) и начали рассматривать и революцию, и реформы как действия государства. Довоенные представления о развитии демократии в обход государства теперь казались бессмысленными. В России война, а затем Гражданская война превратила большевиков в ярых государственников. В других местах либерализм мутировал в социал-демократию, исповедовавшую умеренный этатизм.
Но наиболее драматически развивались события на правом фланге. Правые, в основном под этатистскими лозунгами, пришли к власти в половине стран послевоенной Европы. Возвышение их стало полной неожиданностью – ведь мирные соглашения 1918 г. заключали либералы. Президент Вудро Вильсон провозглашал пришествие «мировой демократической революции». Версальские миротворцы расчленили Австро-Венгрию и отчасти Российскую и Османскую империи на дюжину предположительно демократических государств. Правили в них, как и встарь, титульные народы, однако права меньшинств гарантировались в конституциях. Некоторые либералы и социалисты надеялись даже, что вскоре этому примеру последует и остальной мир – колонии и зависимые государства. Казалось, воцарился новый мировой порядок – эпоха умеренных демократических национальных государств.
На первый взгляд так оно и было. Окончилась послевоенная смута, и Европа устремилась по пути прогресса. К концу 1920-х из всех двадцати восьми европейских государств лишь в одном не было конституции, узаконивающей парламентские выборы, партийную конкуренцию и гарантии для меньшинств. Правда, не везде избирательное право распространялось на женщин (а также на многих мужчин), исполнительная власть часто вступала в конфликт с законодательной, политическая практика нередко шла вразрез с конституционными нормами. Но либеральная демократия оставалась идеалом – и, казалось, уже стояла на пороге. Даже единственное исключение, Советский Союз, позиционировал себя как более демократическую, истинно демократическую страну. Перспективы умеренного национализма были не столь радужными. Миллионы беженцев – национальных меньшинств возвращались на родину под давлением своих бывших государств (об этом я расскажу в следующем томе).
Но прежде всего все великие державы искренне верили, что XX век пройдет под флагом либеральной демократии.
К концу ХХ века в Европе, как и на Западе в целом, либеральная демократия действительно победила. Северо-запад Европы уже много десятилетий остается твердо либеральным или социал-демократическим, как и политические институты (вначале – только для белых) в основных бывших колониях. Последний из авторитарных режимов юга Европы пал в 1975 г. Коммунистические режимы востока рухнули в 1989–1991 гг. К концу тысячелетия все европейские страны стали формально многопартийными демократиями, хотя в некоторых посткоммунистических странах легитимность правительства вызывает сомнения, а межэтнические противоречия порой выходят на поверхность. И все же Югославия для большинства европейцев выглядит чем-то чуждым и исключительным. Демократию оказалось трудно экспортировать в другие части света, однако на Западе она главенствует.
Но между 1920 и 1945 гг. либеральная демократия отступала и несла тяжелые потери в боях с авторитаризмом. К 1938 г. в пятнадцати из двадцати семи парламентских стран Европы правили диктаторские режимы: большинство из них выступали от имени единой органической нации и притесняли меньшинства. На карте 2.1 обозначены годы переворотов и захвата власти. На других континентах четыре бывшие британские колонии с большинством белого населения – США, Канада, Австралия и Новая Зеландия – обладали демократией только для белых (лишь в Новой Зеландии у большинства аборигенов имелись представительские права; в Южной Африке и в Родезии установились безупречные демократии, но только для белых). Две крупнейшие азиатские страны, Китай и Япония, подпали под власть авторитарных правительств; в Латинской Америке относительно демократическими оставались лишь Уругвай, Колумбия и Коста-Рика, в остальных же странах форма правления была неустойчивой. Таким образом, в межвоенный период в Европе сформировалось два приблизительно равных по силам глобальных блока, либерально-демократический и органически-авторитарный. Оба стремились к большей инфраструктурной власти государства, но лишь последний увеличивал и деспотическую власть. Дело окончилось тотальной войной между ними. Как объяснить эту межвоенную победу авторитаризма в половине (но не во всех) более или менее развитых стран Европы и мира? Ответ на этот предварительный вопрос необходим нам для того, чтобы ответить на следующий: как возник фашизм? Первые ключи к ответу дает нам карта Европы.
Карта 2.1. Две Европы между мировыми войнами
География: две Европы
На карте 2.1 – политической карте межвоенной Европы – мы отчетливо видим два субконтинента, «две Европы»: одну – либерально-демократическую, вторую – авторитарную. Эти две Европы различаются и географически: одна занимает северо-запад материка, вторая – центр, юг и восток. Кроме Чехословакии (лишь незначительно ограничивавшей в правах немецкое и словацкое меньшинства), к либерально-демократическому блоку относились одиннадцать стран северо-запада: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Франция. Почти все остальные либеральные демократии в мире представляли собой бывшие британские колонии. Таким образом, либерально-демократический блок включал в себя три социогеографические зоны: «север», «англосаксов» и «нижние земли»[11 - Термин «нижние земли» (Low Countries) традиционно используется в английском языке для обозначени Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Однако М. Манн также включает в «нижние земли» Францию и, похоже, даже Швейцарию. – Примеч. науч. ред.], связанные между собой морской торговлей и схожими политическими и идеологическими особенностями. Во всех этих зонах еще до 1900 г. утвердилось конституционное правление. Англосаксонский мир говорил по-английски; северные страны (кроме Финляндии) общались на понятных друг другу языках одной языковой группы; и на всем этом пространстве, кроме Франции, Бельгии и Чехословакии, элиты легко могли разговаривать друг с другом на английском языке.
Все эти регионы, кроме Ирландии, были весьма деполитизированы. Десять из шестнадцати были в основном протестантскими. В Бельгии, Чехословакии, Франции и Ирландии большинство было католиками, в Нидерландах и Швейцарии две религии сосуществовали на равных. В блок входили все европейские страны протестантского большинства, кроме Германии, Эстонии и Латвии; а кроме того, все протестантские страны, в которых за предыдущее столетие резко ослабла связь между церковью и государством. В Нидерландах и Швейцарии католическая церковь также была отделена от государства, а Бельгия, Чехословакия и Франция были достаточно секулярными католическими странами (чешская церковь вошла в конфликт с Ватиканом). Как видим, северо-запад объединяла не только идея либерально-демократического национального государства; его географическая связанность обеспечивала беспрепятственную циркуляцию общих идеологий. Далее мы увидим, что эта культурная солидарность оказалась весьма весомым фактором.
Большая часть органически-авторитарной «семьи» также представляла собой единый географический блок, хоть и разделенный на два исторически различных социокультурных сегмента: «романо-средиземноморский» и «славянский/восточно- и центрально-европейский». Их языки сильно разнились, общего экономического пространства не было. Однако эти страны (кроме большей части Германии, Эстонии и Латвии) сохранили свои исконные христианские церкви: в этот блок входило большинство католических стран и все православные страны в Европе. Кроме того, в этот блок входили все европейские страны, не считая Ирландии, где церковь сохраняла сильные связи с государством. Это культурное родство в одних случаях и культурный антагонизм в другом во многом определили специфику развития авторитаризма и фашизма на этих территориях.
По «линии соприкосновения» двух Европ мы можем определить и «зону разлома», обозначенную на карте. В основном она проходит по границе между Францией и Германией. Эти две страны могли склониться на ту или другую сторону. Франция могла стать авторитарной страной, Германия вполне могла сохранить парламентскую систему, ведь борьба между демократическими и авторитарными силами шла в обеих странах на протяжении десятилетий. Основные довоенные теоретики протофашизма (Моррас, Баррес, Сорель) были французами, и именно в довоенной Франции имелись сильнейшие на всем северо-западе радикальные партии справа и слева. По мере укрепления нацизма в Германии нарастала растерянность и раскол в рядах французских консерваторов. Все громче звучали голоса фашистов. Если бы в 1940 г. во Франции (естественно, не оккупированной) были проведены выборы, полуфашистская Французская социальная партия (PSF) вполне могла бы получить больше 100 мест в парламенте, полагает Суси (Soucy, 1991). Позднее в стране пользовался немалой поддержкой коллаборационистский режим Виши. И наоборот: Веймарская республика была весьма демократична и при других обстоятельствах могла бы и уцелеть. Исход политической борьбы во Франции и Германии можно объяснить и географическими факторами: политическая «сердцевина» каждой из этих стран находилась ближе к противоположному географическому блоку. Париж и окружающая его провинция Иль-де-Франс находятся на севере, наиболее экономически развитые районы Франции – на северо-западе. Франция была интегрирована и в северо-западную британско-нидерландскую рыночную/демократическую/протестантскую зону, а не только в более авторитарный католический юг. И напротив, сердце Германии лежало в Берлине и Пруссии, на востоке страны. Немецкая история часто предстает как безостановочная экспансия авторитарной Пруссии на более либеральный юго-запад и на северные торговые порты.
Другие электронные книги автора Майкл Манн
Другие аудиокниги автора Майкл Манн
Фашисты




 0
0