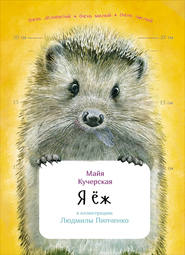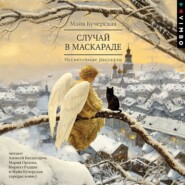По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обвенчались они в домашней церкви Киреевского. Маркович был влюблен, околдован, Мария Александровна годы спустя скажет, что вышла замуж в шестнадцать лет без любви, стремясь к независимости. Муж не только подарил ей, бесприданнице, независимость – он открыл ей, что народный украинский быт может стать источником творчества. Образование Мария получила в елецком пансионе – с обучением танцам, французскому, игре на фортепьяно. Хотя, по преданию, деды ее были с Киевщины и украинскую речь она впервые услышала в детстве, именно после знакомства с Афанасием Васильевичем она начала собирать украинские пословицы, песни, слова для словаря живого украинского языка и разглядела, сколько солнца и озорства в малороссийской теме. Первые рассказы Марии Александровны из малороссийского народного быта и на малороссийском наречии «Народш оповщання» (1857, 1862) были опубликованы под псевдонимом Марко Вовчок, крепким и круглым, как репа – с кивком то ли на фамилию вдохновителя, то ли на казака Марка, мифического родоначальника Вилинских. Но это произошло годы спустя. Пока же Мария Александровна была почти девочкой, начитанной, умной, привлекательной, а Афанасий Васильевич – молодым человеком с ореолом изгнанника. У Марии была чудная память, она запоминала и мелодию, и слова со слуха – и вскоре уже подпевала Марковичу.
Пели они всегда об иной, лучшей жизни – не в душном Орле, а на червонной Украйне, под тенью черешен, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живется веселей.
Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, многого добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе (видимо, мать умолила брата), позовет в Киев отведать иного житья – его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии?
Через полтора года переписывания дел, в сентябре 1848-го, Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжение. Ему хотелось бежать.
Орел щемил недавним жизненным проигрышем, давил недоумением родных. И, став уже известным писателем, от своей «малой родины» Лесков отрекся. «Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев»
, – писал он, как обычно, несколько искажая факты: он провел в Орле не только детские годы и покинул его, по тогдашним меркам, отнюдь не ребенком – восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами.
Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. Паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось всё больше. Плотневший на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кой-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес, и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи.
Внезапно всё зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город.
Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестрядь городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленью деревьев. Еще выше, над церквями, домами, лесом сияла лазурь.
Ступенью в небо был этот город.
Купец и приказчик начали размашисто креститься, самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль – несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце – не было ему больше дела, нечего стало освещать.
Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного – купец щедро делился с Николаем, где здесь что; чуть выше зеленел Подол. Воздух похолодел, отсырел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда.
Пока пересаживались, перекладывались на шаткий днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука (утром нарочно переоделся – ветер был свеж). Стоявшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти…
И всё это вместе – златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, величавая река с островами, смиренный старец с серебряной бородой, которой играл ветер, слова молитвы и всё ближе подступавшие зеленые берега – наполнило сердце таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться – о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло.
Так и случилось: чудный, странный, невероятный город подарил ему немало минут чистого восторга, беспримесного счастья. Потом, уже став профессиональным сочинителем, о любимой Украйне Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле поэзия неизменно мешалась с тоской, вздохом о духе рабства, вечном насилии барина над крестьянином, мужа над женой, матерью над дитятей. Там печалилась и болела русская жизнь, здесь – подбоченясь, сверкала улыбкой малороссийская. Бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура, не утихая лились песни, разряженные хлопцы и дивчины отплясывали гопака, в рот валились галушки.
Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.
Глава вторая
Киевские университеты
Гоголь всё мурлыкал песенки, вертелся, подсвистывал на коней, сгонял прутиком оводов и в шутливом тоне заговаривал с ямщиком. Но ямщик на эту пору попался им самый несловоохотливый, и как Гоголь его ни заводил на разговоры, наконец должен был от бесед с ним отказаться.
Н. С. Лесков. Путимец
Лестница в небо
Киев отогрел. Полыхнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города.
Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то, нарядная, говорливая. И так же пестро, непривычно она звучала: малороссийский напев мешался с польским пришепетом, русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы, из палисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей – так здесь звали студентов-старшекурсников. Кареглазые дивчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских.
И пахло здесь иначе – акации росли прямо у стен дядюшкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, почки как по команде выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому: ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь, здешний «воздухец» можно было глотать и «кушать» (этот съедобный воздух он вставит потом в одну свою повесть).
Всюду, в любых гостях киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным, и обязательно хвастались рецептом – «поди не орловское», «не то что у москалей»!
Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов – он буквально бегал по городу: с Малой Житомирской, где жил, мчался вверх, к Софии. Ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопениям, твердил, как в полусне, забыв себя: не вемы, на небесили есмы были или на земли. Приложившись к кресту и иконам, выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять.
С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на Подол с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением.
Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хомы Брута. Так же на Контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянная статуя голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку – это Самсон побеждал льва. Как и прежде, толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно дивясь подвигу библейского богатыря. Сновали с тетрадками под мышкой бурсаки – Киевская духовная академия так и располагалась при Братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники.
Под благовест лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск, по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру, шел сквозь царский сад к Печерской лавре.
Не сразу он добрался сюда. Всё не складывалось, всё как-то не получалось. Наконец сподобился. Истории из Киево-Печерского патерика мать читала ему на ночь, и чуть не всех подвижников он помнил по именам. Прохор Лебедник, умевший хлеб из лебеды делать сладким; силач Моисей Гробокопатель; иконописец Алипий; Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все – богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои. Но, сойдя в пещеры, Николай оторопел.
Как потерянный бродил он в полумраке, не разгоняемом дрожащими огоньками лампад, прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики: стыдно, как в детстве – до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет божий и, ободрясь, зашагал навстречу снисходившим к слабостям человеческим деревянным домикам Печерска.
Разгул здесь был совсем не орловский – горячий, ласковый.
Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей «по-фамильному», с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение – горилку, колбасу, сало, рыбицу, девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в Лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила: Радуйся, Благодатная, Господь с тобою, – бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии это называлось «досидеть до Благодатной»
.
И всё было можно, и всё хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся наконец к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались: удалая дивчина с ямочками на щеках; сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, взобравшийся под самый купол храма; усердный старовер из «шияновских нужников»; университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне; нахохленный, голодный студент – бесстрашный забияка кабацких побоищ; исхудалый паломник с черными страшными ногтями на руках, прошедший по обету три сотни верст пешком…
Жизнь, как шар круглого афонского светильника, сверкала огнями, жизнь была вертоград многоцветный, населенный разными людьми – поэтами, учеными, чудаками, и каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Всё было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории – слушать лекции, то в городской сад – вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на всё.
В Орле жило несколько любимых семей – в Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился.
Первым в списке – не обойдешь – значился дядюшка.
Сергей Петрович Алферьев (1816–1884) – ординарный профессор киевского Императорского университета Святого Владимира, декан медицинского факультета – цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему (у него была своя практика) неизменно сидела длинная очередь – и трепетала. Известно было: чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопает, только держись! Ему всё прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот какая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом Н. К. Кобцом.
Как-то раз старик Кобец, владелец крупного кожевенного завода, занемог. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки – без толку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву.
Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче.
– Говорят, он грозен. А я робок, не люблю, когда на меня кричат.
– Да не всегда же он кричит. Только под горячую руку. А и покричит, что за беда? Была бы польза…
– Нет, я боюсь, когда на меня кричат.
– Да ведь он гневается, когда пациент мямля, слишком долго раздевается. Вы вот что, папенька, сделайте: расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет – пиджак уж и сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать.
Старый Кобец всё это выслушал и отправился на прием. Начал профессор принимать, сидит Кобец в очереди ни жив ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики.
Сердце у Кобца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом и на жилете – готовится войти в кабинет.
Вот и его очередь!
Не успел профессор произнести его имя, как старик-сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе.
– Этта еще что? – закричал профессор. – Вы этта… что себе позволяете?
Пели они всегда об иной, лучшей жизни – не в душном Орле, а на червонной Украйне, под тенью черешен, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живется веселей.
Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, многого добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе (видимо, мать умолила брата), позовет в Киев отведать иного житья – его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии?
Через полтора года переписывания дел, в сентябре 1848-го, Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжение. Ему хотелось бежать.
Орел щемил недавним жизненным проигрышем, давил недоумением родных. И, став уже известным писателем, от своей «малой родины» Лесков отрекся. «Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев»
, – писал он, как обычно, несколько искажая факты: он провел в Орле не только детские годы и покинул его, по тогдашним меркам, отнюдь не ребенком – восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами.
Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. Паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось всё больше. Плотневший на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кой-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес, и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи.
Внезапно всё зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город.
Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестрядь городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленью деревьев. Еще выше, над церквями, домами, лесом сияла лазурь.
Ступенью в небо был этот город.
Купец и приказчик начали размашисто креститься, самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль – несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце – не было ему больше дела, нечего стало освещать.
Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного – купец щедро делился с Николаем, где здесь что; чуть выше зеленел Подол. Воздух похолодел, отсырел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда.
Пока пересаживались, перекладывались на шаткий днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука (утром нарочно переоделся – ветер был свеж). Стоявшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти…
И всё это вместе – златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, величавая река с островами, смиренный старец с серебряной бородой, которой играл ветер, слова молитвы и всё ближе подступавшие зеленые берега – наполнило сердце таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться – о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло.
Так и случилось: чудный, странный, невероятный город подарил ему немало минут чистого восторга, беспримесного счастья. Потом, уже став профессиональным сочинителем, о любимой Украйне Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле поэзия неизменно мешалась с тоской, вздохом о духе рабства, вечном насилии барина над крестьянином, мужа над женой, матерью над дитятей. Там печалилась и болела русская жизнь, здесь – подбоченясь, сверкала улыбкой малороссийская. Бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура, не утихая лились песни, разряженные хлопцы и дивчины отплясывали гопака, в рот валились галушки.
Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.
Глава вторая
Киевские университеты
Гоголь всё мурлыкал песенки, вертелся, подсвистывал на коней, сгонял прутиком оводов и в шутливом тоне заговаривал с ямщиком. Но ямщик на эту пору попался им самый несловоохотливый, и как Гоголь его ни заводил на разговоры, наконец должен был от бесед с ним отказаться.
Н. С. Лесков. Путимец
Лестница в небо
Киев отогрел. Полыхнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города.
Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то, нарядная, говорливая. И так же пестро, непривычно она звучала: малороссийский напев мешался с польским пришепетом, русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы, из палисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей – так здесь звали студентов-старшекурсников. Кареглазые дивчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских.
И пахло здесь иначе – акации росли прямо у стен дядюшкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, почки как по команде выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому: ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь, здешний «воздухец» можно было глотать и «кушать» (этот съедобный воздух он вставит потом в одну свою повесть).
Всюду, в любых гостях киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным, и обязательно хвастались рецептом – «поди не орловское», «не то что у москалей»!
Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов – он буквально бегал по городу: с Малой Житомирской, где жил, мчался вверх, к Софии. Ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопениям, твердил, как в полусне, забыв себя: не вемы, на небесили есмы были или на земли. Приложившись к кресту и иконам, выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять.
С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на Подол с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением.
Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хомы Брута. Так же на Контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянная статуя голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку – это Самсон побеждал льва. Как и прежде, толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно дивясь подвигу библейского богатыря. Сновали с тетрадками под мышкой бурсаки – Киевская духовная академия так и располагалась при Братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники.
Под благовест лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск, по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру, шел сквозь царский сад к Печерской лавре.
Не сразу он добрался сюда. Всё не складывалось, всё как-то не получалось. Наконец сподобился. Истории из Киево-Печерского патерика мать читала ему на ночь, и чуть не всех подвижников он помнил по именам. Прохор Лебедник, умевший хлеб из лебеды делать сладким; силач Моисей Гробокопатель; иконописец Алипий; Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все – богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои. Но, сойдя в пещеры, Николай оторопел.
Как потерянный бродил он в полумраке, не разгоняемом дрожащими огоньками лампад, прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики: стыдно, как в детстве – до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет божий и, ободрясь, зашагал навстречу снисходившим к слабостям человеческим деревянным домикам Печерска.
Разгул здесь был совсем не орловский – горячий, ласковый.
Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей «по-фамильному», с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение – горилку, колбасу, сало, рыбицу, девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в Лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила: Радуйся, Благодатная, Господь с тобою, – бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии это называлось «досидеть до Благодатной»
.
И всё было можно, и всё хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся наконец к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались: удалая дивчина с ямочками на щеках; сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, взобравшийся под самый купол храма; усердный старовер из «шияновских нужников»; университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне; нахохленный, голодный студент – бесстрашный забияка кабацких побоищ; исхудалый паломник с черными страшными ногтями на руках, прошедший по обету три сотни верст пешком…
Жизнь, как шар круглого афонского светильника, сверкала огнями, жизнь была вертоград многоцветный, населенный разными людьми – поэтами, учеными, чудаками, и каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Всё было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории – слушать лекции, то в городской сад – вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на всё.
В Орле жило несколько любимых семей – в Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился.
Первым в списке – не обойдешь – значился дядюшка.
Сергей Петрович Алферьев (1816–1884) – ординарный профессор киевского Императорского университета Святого Владимира, декан медицинского факультета – цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему (у него была своя практика) неизменно сидела длинная очередь – и трепетала. Известно было: чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопает, только держись! Ему всё прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот какая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом Н. К. Кобцом.
Как-то раз старик Кобец, владелец крупного кожевенного завода, занемог. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки – без толку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву.
Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче.
– Говорят, он грозен. А я робок, не люблю, когда на меня кричат.
– Да не всегда же он кричит. Только под горячую руку. А и покричит, что за беда? Была бы польза…
– Нет, я боюсь, когда на меня кричат.
– Да ведь он гневается, когда пациент мямля, слишком долго раздевается. Вы вот что, папенька, сделайте: расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет – пиджак уж и сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать.
Старый Кобец всё это выслушал и отправился на прием. Начал профессор принимать, сидит Кобец в очереди ни жив ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики.
Сердце у Кобца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом и на жилете – готовится войти в кабинет.
Вот и его очередь!
Не успел профессор произнести его имя, как старик-сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе.
– Этта еще что? – закричал профессор. – Вы этта… что себе позволяете?