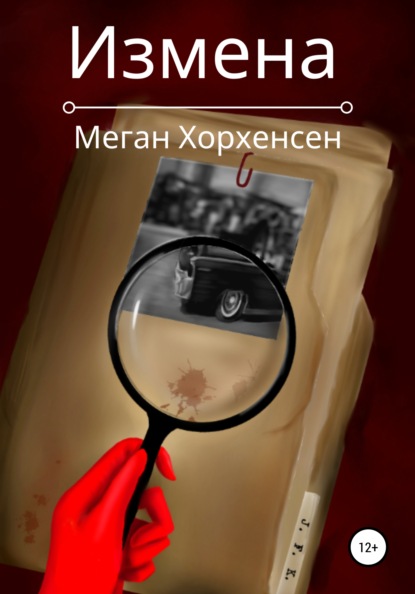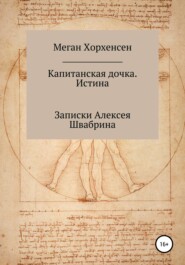По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Измена
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3. Некоторые свидетели явно видели дымок от выстрелов, поднимающийся с холма.
Вопрос: почему следствие не обратило внимания на заявления этих лиц?
4. Полицейские нашли на холме ещё одну винтовку!
Вопрос: почему в официальных выводах об этой винтовке ничего не говорится?
Эти четыре пункта и считаются убедительными доказательствами, опровергающими выводы комиссии Уоррена о стрелке-одиночке Освальде. Все эти пункты легко разбиваются:
1. За 5,9 секунды перезарядить карабин три раза и сделать три выстрела невозможно. Это верно. Но ведь учитывать надо только два выстрела – второй и третий! Время, затраченное на подготовку к первому выстрелу, в расчёт не принимается, так как Освальд заряжал карабин и целился до открытия огня. Нельзя учитывать и время, затраченное на выброс третьей гильзы. Таким образом, за 5,9 секунд было произведено всего два выстрела. А это средний показатель для недавнего морского пехотинца. Первым выстрелом Освальд поражает цель, два следующих – промахи, – несмотря на то, что медленно движущийся автомобиль находится на расстоянии 80 метров. Но даже знаменитые 5,9 секунды выдуманы прессой. На самом деле, стрельба длилась до восьми секунд. На плёнке Запрудера выстрелы следуют от кадра 210 до кадра 313. Длительность экранного времени от первого выстрела до последнего – 7,6 секунды. У Освальда оставалось время даже на четвёртый выстрел.
Вывод: затраченное на стрельбу время и её результаты соответствуют официальной версии.
2. Действительно, десятки свидетелей слышали звук выстрелов с холма. Следователи опросили двести десять человек из толпы. Шестьдесят из опрошенных подтвердили, что слышали стрельбу с холма. Еще около пятидесяти слышали выстрелы и с холма, и из склада. Но достаточно сверить схемы расположения этих свидетелей по отношению к холму и складу, чтобы убедиться в том, что речь идёт об элементарном эхе.
Вывод: свидетели, слышавшие выстрелы с холма, слышали эхо.
3. Дымок на холме, замеченный десятком человек, имел место. Чтобы понять, что это за дым, достаточно в жаркий погожий день найти в центре города травяной холм и посмотреть на него. С холма обязательно будет виться дымок… испарений. Воздух вибрирует, и это можно принять за дымок. Если рядом начнут палить из винтовки, а потом наблюдателя расспросить о виденном, то не стоит удивляться замеченному дымку от выстрелов.
Вывод: дымок на холме – не дым от пороха, а обычные испарения в жаркий день.
4. Винтовка, обнаруженная на холме. Первоисточник слуха определить не удаётся. Нет никаких фамилий, фотографий, свидетельских показаний. Возможно, слух родился после того, как репортёры заметили полицейских, несущих карабин Освальда мимо холма. Возможно, в винтовку на холме причудливо трансформировался найденный в помещении книжного склада игрушечный автомат, принадлежавший сынишке одного из работников. В любом случае, никаких подробностей нигде не приводится. Кто нашел вторую винтовку? Когда? Кто первым об этом заявил? Ответа нет. Всюду, в любой публикации только ссылаются на предыдущую.
Вывод: довод придуман репортёрами в погоне за сенсацией. А может и не репортёрами, а может и не ради сенсации…
Несмотря на то, что все доказательства участия нескольких стрелков легко разбиваются, власти их не опровергают. В 1979 году Комитет конгресса по расследованию тяжких преступлений на основании именно этих доказательств делает вывод о возможности заговора.
Между тем, писатель Бернард Корнвел в одной из книг о майоре Шарпе (знаменитая серия о наполеоновских войнах) описывает, как Шарп рисуется перед новобранцами, заявляя, что может за минуту выстрелить из ружья три раза, тогда как по регламенту полагается сделать один выстрел, а очень хорошие стрелки успевают сделать два. Шарп за минуту стреляет трижды! Солдатики поражены. И только старый сержант ухмыляется в усы. Он-то знает, в чем фокус – в первый раз Шарп заряжал ружьё до начала отсчёта…
Даже в историческом романе демонстрируется невинное мошенничество при подсчётах секунд. Власти США до сих пор не удосужились опровергнуть надуманные аргументы, подогревающие общественное мнение вот уже десятки лет.
2.5. Семья
«Все счастливые семьи похожи друг на друга…» Если все остальные счастливые семьи похожи на нас, то любопытно, сколько счастливых семей останется в живых через пару суток?
Мари в ответ на шутку посмеивается. Вообще-то, шутки мои ей не нравятся – она их воспринимает слишком серьёзно, а шутки у меня бывают резкими, иногда на грани жестокости. Часто Мари мягко просит не шутить. Но для меня чёрный юмор – отдушина, выплеск злости и раздражения из-за абсурдности ситуации. Конечно так нельзя, я понимаю, что мои шутки могут быть неприятны. Но ничего поделать с собой не могу – мы все выплёскиваем раздражение на самых близких. Иначе облегчить душу не получается. Видимо, близкий человек должен принимать на себя часть наших настроений.
* * *
В чём-то Мари обычная женщина. Однажды давным-давно, в первые дни нашей любви, ей показалось, что я собираюсь её бросить – тогда мы ещё только притирались друг к другу. Она горько плакала, просила не уходить.
Я увидел, что она меня любит не меньше, чем я её. И с тех пор у нас не было размолвок. Или почти не было. В этом отношении мы – исключение из правил. Даже счастливые семьи иногда поругиваются. Мы же не ругались. Почти ни разу. А когда ругались, то виноват был я и только я – выходил из себя по пустякам, спускал на Мари ненужных собак, выпускал пары. Причина всегда лежала в стороне: нелады на работе… зуб болит… погода подкачала…
Но Мари невероятная женщина. Несколько поползновений к ссоре закончились ничем как раз из-за её реакции. Чего стоило спокойствие Мари, мне никогда не узнать, но после того, как она дважды или трижды не дала ссоре развиться, ссориться стало неинтересно.
Мари – единственный человек, кому я доверяю безоговорочно и безраздельно. Поэтому я не могу излагать дело профессионально. Срываюсь, перепрыгиваю. Волнуюсь как мальчишка. Топчусь-топчусь, а рассказ не двигается. Хотя Мари постепенно узнаёт сведения, необходимые для понимания. И то хорошо.
Сколько в Мари от Глеба? Сколько от мамы? Сколько от мужа, с которым провела долгие годы? От детей? От меня? Сколько только своего, только того, что было даровано природой только ей?
Пока я знаю одно – мы любим друг друга и готовы на всё ради друг друга. К нам не относятся утверждения, будто за дымовой завесой показной заботы о ближнем люди скрывают стремление обеспечить собственное благополучие.
* * *
Когда мы поженились, Мари рассказала, как убили Стаса.
Пулей. Точнее шестью пулями. В дверь позвонили, он пошёл открывать. Не поглядел в глазок, не спросил, кто там. Открыл дверь, раздались хлопки – шесть тихих хлопков. Стас упал и умер. Обычно дверь открывала сама Мари. Если бы она открыла дверь и в тот раз, то сначала застрелили бы её, а потом Стаса.
Но открыл двери Стас, Мари осталась жива, и мы познакомились за праздничным столом, когда случайно оказались друг против друга во время празднования то ли годовщины свадьбы Глеба, то ли очередной круглой даты его военной службы. На ней был черный свитер и белая брошь. И у неё была мягкая, спокойная улыбка. Мари улыбается далеко не всегда – только у сумасшедших постоянно ровное и прекрасное настроение. Но с тех пор без её улыбки жить мне стало если не невозможно, то очень и очень трудно.
* * *
«…каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Вряд ли где-то в мире есть ещё одна семья, в которой сегодня происходит то же, что с нами… Значит, мы несчастливая семья? Поживём – увидим.
И они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Глава третья. Легенда
3.1. Глеб (обыкновенная биография в обыкновенное время)
Предисловие Вадима Шмакова: «Это черновик мемуаров Глеба Сергеевича Голикова, найденный мною на его даче. Несколько рукописных страничек хранились в стареньком письменном столе. Обнаружил я их, копаясь в бумагах по просьбе Натальи Петровны, вдовы покойного. До меня на даче побывали специалисты, забравшие всё, что им показалось достойным внимания, поэтому остаётся загадкой, каким чудом бумаги уцелели среди ненужного хлама: выписанных на карточки слов, конспектов классиков марксизма-ленинизма, газетных вырезок на тему партийных съездов. В записках схематично охвачен весь период военной службы, но упор делается на последний год работы. Видимо, Глеб Сергеевич хотел написать именно о последнем поручении. Скончался он в девяносто третьем году, через год после выхода в отставку. Успел написать мало. Подзаголовки придуманы мною, деление на главы тоже моё. Ниже, несколько отрывков из записок Глеба».
«Умных убийц не бывает по определению. Раз человек убивает, значит он глуп» – броская и ёмкая фраза, согласен. Но, к сожалению, иногда другого выхода не остаётся.
Мне повезло, потому что убивать не приходилось. Пару раз присутствовал на совещаниях, где другие люди, занимающие более важные посты, принимали решения о ликвидации. Но оба раза моё участие ограничивалось невнятным молчанием.
На совещаниях я любил рисовать дерущихся человечков и пиратские рожицы, напоминая самому себе скучающего на неинтересном уроке школьника. А после окончания совещания черновики собирал секретчик.
Не было сомнений, что бумажки тут же сжигаются, однако как-то раз начальник поймал меня в коридоре и скучающим голосом, глядя вдаль поверх головы, поведал, что руководство заинтересовалось моими упражнениями по рисованию, – мол, не представляют ли фигурки беснующихся пиратов моё видение начальства. Возможно подсознательно, я именно так нашу кухню и видел – засилье пиратских рож, вдохновенно режущих друг друга.
Начал я службу лейтенантом, потому что мне удалось поступить в Московский институт иностранных языков – так тогда назывался многострадальный (в смысле переименований) нынешний Московский лингвистический университет. Большая же часть сверстников после окончания школы пошла служить рядовыми, и к моменту окончания учёбы выяснилось, что призывники сорок девятого домой всё еще не вернулись, так как по срокам этот год оказался самым неудачным из всех послевоенных, и солдаты служили шесть лет.
Не успел порадоваться, что избежал долгих лет военной каторги, как меня, вместе с большей частью выпускников института, тоже забрали. Согласия нашего, разумеется, никто не спрашивал, так как выяснением мнения обычного гражданина в те времена не увлекались. Любить родину и выполнять её поручения считалось святой обязанностью. Честно говоря, мы и сами не сомневались в праве родины распоряжаться нашими жизнями.
На пенсию ушёл полковником. Генерала не получил потому, что сначала началась перестройка, затем пришла неразбериха, а затем я был отправлен в отставку – в возрасте шестидесяти лет, на пять лет старше, чем в армии положено.
На первый взгляд это показало, насколько меня ценили, – переслужил. Однако в нашем ведомстве мой возраст считался если не младенческим, то и не пенсионным. Некоторые полковники исправно приходят на работу и в семьдесят – в полном противоречии с уставами и законами о воинской службе. Увольнение в моём возрасте считается, скорее, опалой.
Но меня уволили, когда я перестал слышать сослуживцев, телефонные звонки, доклады и приказания вышестоящих начальников. Попросту говоря, оглох. А глухой разведчик – это нонсенс. Такому даже мышь убить не поручишь. Хотя, как я заметил выше, согласно должностным обязанностям убивать мне не приходилось.
В армии понравилось. Не знаю, чем это объяснить, так как до призыва относился к ней как и вся интеллигенция – называл военных солдафонами и считал эту организацию пустой тратой народных денег (однако своё мнение умело скрывал).
Так уж получилось, что в армии и жену нашёл, и зятя. Жена, Наталья Петровна, работала вольнонаёмной в штабе главного разведуправления. Первый раз побывала замужем неудачно. Муж спился, они разошлись, и Наташа осталась одна с маленькой дочерью по имени Мари. Поэтому у дочки не моё отчество.
С первых дней службы работал в разведке. Набравшись определенного опыта, стал аналитиком. По мере продвижения по службе узнавал всё больше секретов. Довелось поработать за рубежом, причём в те времена, когда советским людям удавалось выехать из страны только по решению ЦК родной партии.
Интересы страны не ограничивались географическими границами, что не удивительно, так как любая уважающая себя держава стремится к упрочению положения в мире, поэтому больше всего за границей было именно армейцев, – как в соседних ГДР или Польше, так и в экзотических алжирах, мали или камбоджах.