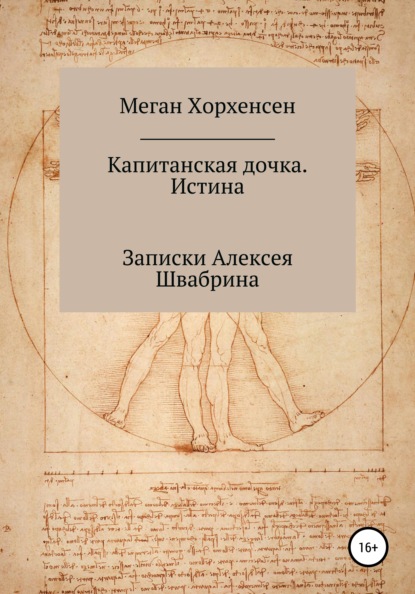По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Капитанская дочка. Истина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Иван Андреич был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!
Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания.
– Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство… Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. Ваше превосходительство не забыло… гм… ёи… когда… покойным фельдмаршалом Потем… походе… также и… Каролинку… Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? Теперь о деле… К вам моего обличителя пороков… гм… катать как сыр в масле… Что такое сыр в масле? Это, должно быть, русска поговорк… Что такое «катать, как сыр в масле?» – повторил он, обращаясь ко мне.
– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться неласково, строго, давать побольше военных экзерсисов, катать как сыр в масле.
– Гм, понимаю… и давать ему воли поболе… нет, видно, сыр в масле значит не то… При сем… его паспорт… Где ж он? А, вот… не отписывать в Камыш-Самарский… Хорошо, хорошо: все будет сделано… Позволишь без чинов обнять тебя и… старым товарищем и другом… а! наконец догадался… и прочая, и прочая…
– Ну, батюшка, – сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, – все будет сделано: ты будешь офицером переведен в Семеновский полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Царское Село, где ты будешь в команде капитана Орлова, императрицы любимца и сердешного друга. Там ты будешь на службе не настоящей, не научишься дисциплине, но с нужными людьми подружишься быстро. В крепостях делать тебе нечего; холод да непрестанные учения вредны молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня. Пора начинать завязывать знакомства при дворе-с.
«Час от часу не легче!» – подумал я про себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже армии сержантом! Куда это меня завело? В парады и в самый центр Империи!.. Я отобедал у Андрея Карловича вдесятером с его адъютантами. Хлебосольное русское застолье царствовало за его столом, и я думаю, что желание видеть иногда лишнего гостя за своею богатою трапезой было отчасти причиною поспешной приписки моей к дворцовому гарнизону.
Как бы то ни было, только не показалась мне служба. Исправно ходил я на балы да приемы, нес караулы при дверях императрицы, заучивая имена очередных фаворитов и отваживая либо не угодивших, либо надоевших амантов и наперсников. Назвать службу сложною было нельзя, но и удовольствия сии обязанности не доставляли, тем паче, что ни о каких армейских хитростях, как то: офенсивы, ретирады, сикурсы да правильные осады – гвардия и не слыхивала, ограничиваясь пересудами да придворными сплетнями.
Одна отрада для души моей выпала – посещение уроков высокого стиля и светлой поэзии, даваемых для дворянской молодежи великим поэтом русским Василием Кирилычем Тредьяковским, который научил меня оды слагать и слоги в сонетах считать. Этим умением я немало изумлял знатных петербургских девиц, коих не чурался, несмотря на дурное отношение с моей стороны к дворянству, из которого, однако, сам я и происходил.
Меж тем, над холопами наши властители измывались исправно и за людей оных не почитали. Что ни день, из холопских хибар да с конюшен доносились крики несчастных терзаемых крестьян, мученья которых мне сердце пронзали не в пример аполлоновым стрелам. Не раз замечал я за собой невольное движение руки, тянущейся к эфесу шпаги при виде очередного измывательства какого-нибудь недоросля над несчастным крестьянином, причем все отличие знатного Митрофанушки от раба состояло в том, что угораздило мерзавца родиться в богатой горнице, а не в крестьянской хибаре.
Неведомо мне, сколь долго сумел бы выдержать я оные испытания, но один случай поспособствовал избавлению моему от сей рутины.
Однажды, сдав караул и выйдя из дворца, отправился я на прогулку в нищие кварталы, где работный люд ютился. Не с той целью, которой забавляли себя изнывающие от скуки офицеры – подстерегать мастеровых, бредущих с работы, и обирать их до последней полушки, только чтобы позабавить удаль молодецкую, а дабы не дать сердцу зачерстветь и не забыть о доле печальной кормильцев земли русской. Дойдя до трактира, вошел я в темную залу и сел за пустой стол, запросив полжбана браги – питья неблагородного, но был я молод и считал, что подобным питьем с народом как бы сближаюсь. Сидя за столом, потягивая густое вонючее пойло и пялясь из окна на грязный переулок, заметил я, что аккурат саженей в ста открылось новое питейное заведение, не в пример чище и просторнее. Любопытство мое превозмогло, и я направил туда стопы свои, будучи уже в изрядном подпитии.
Отворив дверь заведения, убедился, что и впрямь состояло оно из многих зал и коридоров. Испросив у кабатчика чарку водки и испив ее, я пошел бродить по всем комнатам. Войдя в бильярдную, увидел высокого барина лет тридцати пяти с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером – человеком из народа, – который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четвереньках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четвереньках становились чаще, пока, наконец, маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полка и находится в Петербурге при сдаче рекрут, а остановился на постой в этом трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе, чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился, почитая его за боевого офицера, а не парадного гвардейца. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал меня, говоря, что надобно не бояться обильных излияний; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде.
– Это, – говорил он, – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того надобно уметь играть!
Я ни жидов, ни малороссов, ни ляхов не ставил ниже себя, по примеру учителя моего Руссо веря в равенство и братство всех народов, а посему бить никого не собирался, тем не менее, с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и после нескольких уроков предложил мне играть на деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка.
Я не согласился, утверждая, что, мол, негоже слуге отечества играть на интерес, покуда народ бедствует и находится в тяжелейшем положении. Зурин на то велел подать пуншу и все уговаривал меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу – что за служба?! Я послушался его. Между тем дерзкие речи мои продолжались. Чем чаще прихлебывал я из моего стакана, тем становился отважнее; я горячился, бранил светлейшего князя П. и графа Р., час от часу умножал обличения российским порядкам, словом, вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил вилку и объявил мне, что я оскорбил государыню императрицу, но он, Зурин, готов простить мне проступок, коли выплачу ему незамедлительно сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Никитича. Но я не стал извиняться, а попытался внушать сослуживцу все бесчестье его поступка. Зурин меня прервал:
– Помилуй! Изволь побеспокоиться. Я не могу ждать, а не то поеду сейчас в сыск с кляузой.
Что прикажете? Не желая поддаваться на угрозы дерзкого и низкого мужа сего, я отвечал ему, не запинаясь и со всевозможной холодностью:
– Молчи, хрыч! Коли дорога тебе честь государыни, то изволь заступиться за нее, как подобает мужчине. А денег я не дам, да и недостойна твоя Катька гулящая, чтоб за нее заступались. Видать, защитников честнее тебя у этой губительницы народа русского не водится.
Зурин отвечал на то, что я верно пьян, да ведь ему крайняя нужда в деньгах; иначе делу будет дан ход, а это окончится для меня, несомненно, колодками, лишением дворянства и высылкой в Сибирь на поселение на веки вечные. Делать было нечего. Я принял вид равнодушный и ответствовал, что готов долг уплатить. Когда же Зурин, теми словами совсем удовлетворенный, поворотился ко мне спиною, я, дождавшись кабатчика, который в то время спустился в погреб за очередной порцией пуншу, толкнул Зурина, да так ловко, что тот упал на склизкий пол и весь в пыли и грязи извалялся. Я же вместо извинений принялся громко хохотать, на что ротмистр с досады на меня прикрикнул и заявил, что и не такие ему кровью за подобные оскорбления платили. Мне же того и было надобно. Тотчас же я поклонился учтиво, заявив, что готов дать удовлетворение в любой момент. После чего ушел из проклятого трактира, нисколько не сомневаясь, что Зурин пришлет мне вызов при первой оказии – уж больно неприятной вышла бы ему огласка, коли он умолчал бы о деле. Так и случилось – вызов был прислан, и на рассвете следующего дня я заколол ротмистра насмерть на третьем выпаде.
Помогло мне то, что, как видно, дабы сберечь честь мундира, сей офицер пил без просыпу до самой дуэли, а посему не смог бы и в дуб попасть с одного удара, не то что в меня. Я же, напротив, ежедневно посвящал несколько часов фехтованию по французской методе, чему учил меня еще мосье Руссо, изрядный фехтовальщик, потомок, по его словам, лакея одного мушкетера. Мушкетер тот прославился темной историей, связанной то ли с брошкой, то ли с диадемой, подаренной по легкомыслию одной французской королевой британскому герцогу Б. Драгоценность сию лакей умудрился получить назад, благодаря своей природной смекалке и владению оружием, но, как водится, мушкетер приписал все заслуги себе… Но не буду отвлекаться. Даст бог, сумею как-нибудь поведать миру также сию занимательную историю – как рассказывал ее Руссо, ничего не приукрашивая (обещался он в сочинение историю вставить, да не знаю, довелось ли).
Итак, делу об оскорблении властей, в том числе Государыни Императрицы, хода дано не было, хотя Зурин и успел покляузничать в те недолгие часы, что прошли от нашего знакомства до дуэли. Но его собутыльники то ли внимания не уделили болтовне пьяного гусара – общеизвестны хвастовство и презрение их по отношению к офицерам, имеющим несчастие служить в других родах войск, – то ли просто за бутылкой позабыли о тех словах. Однако ж свалить на башкир или калмыков смерть ротмистра не удалось за неимением оных в Царском Селе, посему за дуэль меня подвергли заточению в крепость. (Обычно ссылка за дуэль полагалась на весьма легких условиях). Вот если бы дворянин помог крестьянину дрова рубить или пахать за того вздумал, такого доброго человека в «честный дом» бы не пустили. Но в моем случае речь шла об убийстве генеральского племянника, что осложняло дело. По прошествии нескольких недель разбирательства был удален я из гвардии и послан простым офицером в *** полк с предписанием явиться прямо в Белогорскую крепость.
Вещи были собраны и уложены. Никитич явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестью, но без раскаяния выехал я из Петербурга, не попрощавшись с моими сослуживцами и не думая с ними уже когда-нибудь увидеться.
Глава II
Крепость
«Люблю Россию я, но…»
Известный русский поэт.
«Ой, цветет калина в поле у ручья.
Парня молодого полюбила я…»
Старинная русская песня.
Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проступок мой, по тогдашним нравам, был маловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в трактире было глупо и, хотя не чувствовал себя виноватым перед кем бы то ни было, сознавал, что вскорости меня могут простить, призвать вновь ко двору и отправить на постылые гвардейские вечеринки.
Все это меня мучило, но и надежд на ратные дела и возможности живот свой на благо отечества положить я не терял.
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге или, если точнее, по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:
– Барин, не прикажешь ли воротиться?
– Это зачем?
– Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.
– Что ж за беда!
– А видишь там что? – Ямщик указал кнутом на восток.
– Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
– А вон-вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял, было, сперва за отдаленный холмик. Ямщик объяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены.
(Далее на нескольких страницах автор описывает буран, настигший путников на пути в Оренбург, и рассказывает о том, как путники нашли прибежище в местном постоялом дворе; поскольку к основной канве мемуаров это описание отношения не имеет, тем более что литературные качества отрывка, включая приведенные три первых абзаца, по мнению издателя, уступают колоритным картинам российской природы в романах Э. Тополя, А. Марининой и Д. Донцовой, издатель решил сократить текст повести, исключив из нее буран.)
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью приятные. Гарнизонная жизнь много имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его не невежественным стариком, не знающим своей службы и готовым за всякую безделицу сажать простых рекрутов под арест на хлеб и на воду, а старым и мужественным воином, прошедшем огонь и воду, настоящим богатырем русским, хозяином российских земель.
Между тем, начало смеркаться. Мы ехали довольно быстро.
– Далече ли до крепости? – спросил я у своего ямщика.
– Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна.
Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, наполовину занесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными.
– Где же крепость? – спросил я с удивлением.
– Да вот она, – отвечал ямщик, указывая на деревушку; и с этими словами мы в нее въехали.
У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я вошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на рукав зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне.