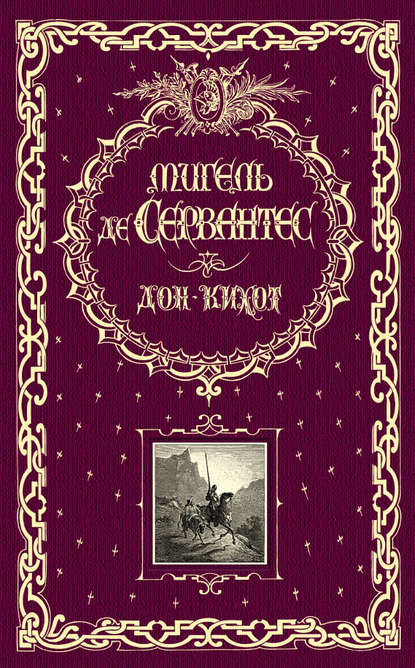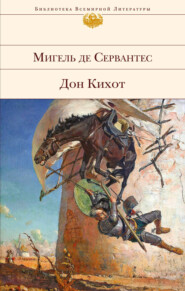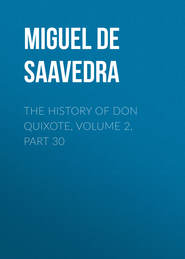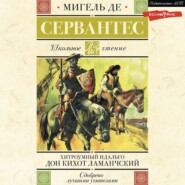По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дон Кихот
Год написания книги
1615
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не забудьте еще, ваша милость, написать вашей экономке, чтобы она мне выдала трех ослят, которых вы мне обещали подарить.
– Не беспокойся, не забуду, – ответил Дон Кихот, – только на чем же мне писать? У нас нет бумаги. Пожалуй, нам следовало бы по примеру древних писать на листьях деревьев или вощаных табличках, хотя найти здесь такие таблички так же нелегко, как и бумагу. Впрочем, вот счастливая мысль: у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах, и там, конечно, найдется два-три чистых листика. А ты в первом же местечке, куда приедешь, постарайся разыскать какого-нибудь школьного учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге и красивым почерком; только смотри, не давай его писарям, которые обычно пишут, не отрывая пера от бумаги, так что их почерк сам сатана не разберет.
– Ну, а как же быть с подписью? – спросил Санчо.
– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон Кихот.
– Так-то оно так, – сказал Санчо, – а только расписка непременно должна быть за вашей подписью, а если ее переписать, так, наверное, скажут, что подпись поддельная, – и я так и останусь без ослят.
– Расписку свою я подпишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она, ни слова не говоря, исполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: «Ваш до гроба рыцарь Печального Образа». Не важно, если подпись будет сделана не моей рукой, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка. Мы только смотрели друг на друга, да и то весьма редко. Могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, я не видел ее и четырех раз. Очень возможно, что она вовсе и не замечала, что я на нее смотрел: в такой строгости воспитали ее Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.
– Те-те-те! – вскричал Санчо. – Так, значит, сеньора Дульсинея Тобосская не кто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло – Альдонса Лоренсо?
– Да, – ответил Дон Кихот, – и она достойна быть царицей всего мира.
– Да я ее отлично знаю, – воскликнул Санчо, – девка хоть куда, ладная да складная. Накажи меня бог! В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за пояс заткнет. Лопни я на этом месте, и силища же у нее! А какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в поле, и хоть до них было не меньше полумили, они услышали ее так же ясно, как будто стояли под самой колокольней. А лучше всего, что она ничуть не жеманится, со всеми балагурит, и все ее смешит и потешает. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Всякий, кто про это знает, наверное скажет, что поступили вы вполне правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уже не терпится тронуться в путь, чтобы взглянуть на нее; давненько я ее не видел. Должно быть, она порядочно изменилась: девка-то ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, а от этого цвет лица скоро портится. Только, сеньор Дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом заблуждении, ибо твердо и крепко верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюблены, – какая-то принцесса или вообще важная особа, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала. Ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, еще многих, ибо, наверное, ваша милость одержала немало побед в ту пору, когда я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть, я хочу сказать, сеньоре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает и будет посылать к ней побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь, чего доброго, они могут явиться к ней в ту минуту, когда она будет расчесывать лен или молотить на гумне. Застав ее за такой работой, они могут рассердиться, а ее самое ваш подарок, наверное, насмешит и обидит.
– Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты несносный болтун и что напрасно ты с твоим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Но чтобы тебе стало ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, скажу тебе только, что все графини и принцессы, все благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Поэтому их просто выдумывают, чтобы было о ком написать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви. Кто же мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренсо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, – если ты только этого не знаешь, – что две вещи особенно возбуждают любовь: совершенная красота и добрая слава, а Дульсинея в полной мере обладает и тем и другим. В красоте никто не сравнится с ней, и мало кто пользуется такой доброй славой, как она. Одним словом, я считаю, что говорю чистую правду, ибо моему воображению она представляется такой прекрасной и благородной, что с ней не сравнится ни Елена, ни Лукреция, ни другие знаменитые жены древности. Так пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы вознаградят меня своими похвалами.
– Вы вполне правы, ваша милость, – ответил Санчо, – согласен, что вы мудрец, а я осел… Ай, ай!.. к чему только вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Ведь в доме повешенного никогда не говорят о веревке. Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорей, а то время идет.
Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо и сказал:
– Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
На это Санчо ответил:
– Да вы, ваша милость, перепишите его раза два или три и передайте мне, а я уж доставлю его в целости. Но чтобы я выучил его наизусть! – ну, уж от этого увольте: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Но все-таки прочтите мне его: должно быть, оно очень хорошо написано.
– Итак, слушай, что я написал, – сказал Дон Кихот.
Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской.
Высокая и властительная сеньора!
Рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой, если же нет, поступай, как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.
– Клянусь жизнью моего батюшки, – воскликнул Санчо, выслушав это послание, – никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись: «рыцарь Печального Образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол: чего вы только не знаете!
– Странствующий рыцарь, – ответил Дон Кихот, – обязан знать все.
– Ну, а теперь, ваша милость, – продолжал Санчо, – напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивей, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
– Охотно, – ответил Дон Кихот и, написав, прочел следующее:
Велите, ваша милость сеньора племянница, выдать подателю сей записки, моему оруженосцу Санчо Пансе, трех ослят из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать ему взамен полученных мною здесь от него трех других. По совершении этого и получении от него расписки, наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сиерра-Морены, двадцать второго августа сего текущего года.
– Превосходно, – сказал Санчо, – а теперь, ваша милость, подпишитесь.
– Незачем подписываться, – ответил Дон Кихот, – мне достаточно сделать росчерк – это все равно что подпись: его хватит не только для трех, но и для трех сотен ослят.
– Верю вашей милости, – ответил Санчо. – Ну, так я пойду оседлаю Росинанта, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. Я сейчас и отправлюсь в путь, а на безумства, которые ваша милость собирается проделывать, смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
– Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть хотя бы на некоторые мои безумства. Тогда ты со спокойной совестью сможешь поклясться, что видел и все те, какие ты сам изобретешь для украшения своего рассказа. Но можешь быть уверен, что мои безумства далеко превзойдут все твои выдумки.
– Ради самого бога, ваша милость, не заставляйте меня смотреть на них. Мне станет так вас жалко, что я непременно разревусь, а я уж столько плакал из-за серого, что у меня голова распухла, и я не в силах начинать сызнова. Но если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Тем более, что для меня этого вовсе не требуется. Как я уже вам докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Пускай сеньора Дульсинея твердо знает: если она не ответит, как подобает, на ваше письмо, так, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Помилуйте, как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой… Ну, уж пусть она меня не заставляет договаривать, а то я такое скажу, что ни ей, ни мне не поздоровится. Уж я на это мастер. Плохо она меня знает; а коли знала б, то постилась бы в день моего святого.
– По правде говоря, Санчо, – сказал Дон Кихот, – мне кажется, что и ты, так же как я, сошел с ума.
– Ну нет, – ответил Санчо, – я вовсе не такой безумец, как ваша милость, зато я куда более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. А вот скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
– Об этом ты не беспокойся, – ответил Дон Кихот, – если бы передо мной стояли и самые изысканные яства, я все же не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяким лишениям.
На это Санчо ответил:
– А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
– Ты хорошенько запомни приметы, – сказал Дон Кихот, – а я постараюсь не уходить далеко. Впрочем, для большей верности, чтобы не заблудиться и не потерять следы, нарежь побольше дроку, – видишь, сколько его растет кругом, – и бросай его по дороге, пока не выедешь на ровное место: по этим вехам ты, как по нити Тезея в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
– Ладно, я так и сделаю, – ответил Санчо Панса.
Санчо сорвал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и наконец они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Но, не отъехав и ста шагов, Санчо вернулся и сказал:
– Вы правы, ваша милость, мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму грех на свою душу, коли поклянусь, что видел их. Впрочем, самое великое безумство я уже знаю: оно в том, что ваша милость остается здесь.
– О чем же я и твердил тебе все время, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Ну, погоди минутку, ты не успеешь прочитать «Отче наш», как я уже покажу тебе кое-что.
Поспешно раздевшись до рубашки, наш рыцарь без долгих предисловий проделал два прыжка, а потом перекувыркнулся раза два через голову. Для Санчо этого было вполне достаточно; не желая видеть дальнейших проделок своего господина, он повернул Росинанта и поспешно отправился в путь.
Глава 20, повествующая о дальнейших подвигах Дон Кихота в Сиерра-Морене и о том, что случилось с Санчо Пансой
Оставшись один, Дон Кихот прекратил свои кувыркания и прыжки, взобрался на самую вершину скалы и, усевшись там, погрузился в глубокие размышления о том, о чем уже не раз размышлял: кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхолическому Амадису?
– Всем известно, – так рассуждал он сам с собой, – что Роланд был отважным рыцарем. Но оставим в стороне все его достоинства, а рассмотрим, как и почему он потерял рассудок. Вполне достоверно, что он сошел с ума в тот час, когда узнал, что его дама Анджелина предпочла ему прекрасного молодого мавра Медоса. Но как же мне подражать его безумству, если со мной ничего такого не случилось? Ведь я могу поклясться, что моя Дульсинея Тобосская – самая благородная и добродетельная дама и никогда мне не изменяла. Я бы нанес ей горькую обиду, если бы усомнился в этом и стал безумствовать вроде неистового Роланда. А в то же время я знаю, что Амадис Галльский, и не впадая в безумие, не совершая никаких неистовств, прославился своею влюбленностью на весь мир. В его истории рассказывается, что, когда сеньора Ориана повелела ему не показываться ей на глаза, прежде чем она не даст ему разрешения на это, он в сопровождении какого-то отшельника удалился на Пенья Побре и, поручив свою душу богу, исходил там слезами, пока небо не сжалилось над его великой скорбью. Если все это правда (что несомненно), то для чего же мне раздеваться донага и ломать деревья, не сделавшие мне никакого зла? Для чего мне мутить ясную воду этих ручьев, которые напоят меня, когда я почувствую жажду? Итак, да здравствует память Амадиса, и да последует его примеру Дон Кихот Ламанчский. Правда, моя Дульсинея не отвергла и не презрела меня, но разве не довольно того, что я с нею разлучен? Итак, скорей за дело! Память! Воскреси скорее в моем уме славные деяния Амадиса! Научи меня, с чего мне начать, подражая этому славному рыцарю. Помнится мне, что он больше всего молился, поручая себя богу. Так скорее за молитвы. Только откуда мне взять четки?
Однако он быстро разрешил эту задачу: оторвал широкую полосу от подола своей рубашки, сделал на ней одиннадцать узелков, один из которых был покрупнее остальных, – и четки были готовы. С помощью этих четок он отлично прочел миллионы молитв за то время, пока находился в горах Сиерра-Морены. Его смущало только одно – негде было найти отшельника, который бы исповедал и утешил его. Но делать было нечего, приходилось довольствоваться одними молитвами да покаянием. Остальное время он проводил, прогуливаясь по лужайке и сочиняя томные стихи о своей печали или же стансы во славу Дульсинеи. Он вырезывал их на коре деревьев и чертил на мелком песке. Из всех стихотворений сохранилось только одно:
Дерева, растенья, травы,
Что вокруг меня стоите
Зелены, широкоглавы,
Коль не трудно, о, внемлите
Песням жалобной отравы!
Пусть не даст забот к заботам
Вам печаль моя: ну, где ей!
Чтоб сравниться с вами счетом,
Слезы льются Дон Кихотом,