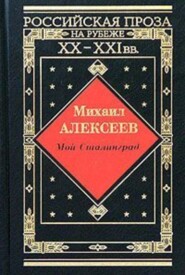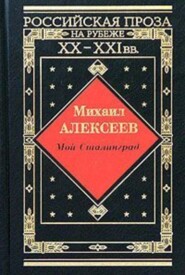По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хлеб – имя существительное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самонька глянул в одну, в другую сторону, покосился на окно, как бы боясь, что их подслушают, и шепотом, как величайшую тайну, доверительно сообщил:
– Важный объект охраняю.
– Сторожем, значит? Трудно, поди? Вон мой старик кой уже год колхозные амбары охраняет, сторожит, стало быть. Ране-то при пчелах был, да больно, вишь, кусаются пчелы энти… Теперь при хлебе. Ни дня, ни ночи покоя нету. Придет, прозябнет весь…
Самонька нетерпеливо перебивает:
– Не сторожем я, тетенька, пойми ты!.. Важный объект! Понимаешь?
– Как же, как же, голубок!.. Вот я и говорю: простоит, сердешный, с ружьишком всю ночь. А ночи-то зимой длинные-предлинные, морозы лютые, стужа… Поставлю ему самовар. Весь как есть выпьет… Легко ли сторожем-то быть? Понимаю, чай, не первый год на свете живу…
Самонька в отчаянии крутит головой:
– Да пойми ты наконец, старая, не сторож я, не караульщик, а командир… охраны. Это тебе не амбары стеречь, а важный объект!
Но бабушка Настасья продолжает свою линию:
– Я и понимаю, я и говорю: нелегко тебе, сынок. Сторож – должность беспокойная, ночная. Мой-то вон придет под утро домой – в бороде сосульки намерзли, отдираю ему их. «Шел бы ты, говорю, старик, на пенсию – сто семнадцать трудодней полагаются пенсионеру, хватит с нас…» – «Нет, говорит, старуха, рано мне на пенсию – людей не хватает в колхозе, как же я могу лежать на печи… Люблю, говорит, сторожить колхозное добро, особливо хлеб…» Так что трудная у вас с моим стариком должность, сынок! Как же, я все понимаю!
Самонька чуть не плачет.
– Пошла ты, тетенька, к дьяволу со своим сторожем!
– А я, милый, сама так думаю: бросьте вы с моим стариком это самое…
Самонька – в тупике: попробуй что-либо втолковать этой глупой старухе!
Вдруг его осеняет.
– Тетенька, вдов-то много, поди, в селе?
Настасья хитренько глядит на племянника, вновь усевшегося против нее за столом.
– Ты что же, сынок, ай не женатый?
– Не женатый, тетенька. Не успел. Война помешала… Так как же… есть такая, помоложе чтоб?
– Есть. Как не быть? Много их опосля войны, сынок, осталось. И детных, и бездетных…
– Ну, ну!
– Ты, милый, сходил бы к Журавушке. Рада-радешенька будет.
– А она что, того?..
– Молодая и личиком сходственная. Всех, сказывают, принимает, никого не обижает.
Самонька нетерпеливо ерзает на лавке, новые ремни на нем беспокойно скрипят, уши вспыхивают, как два ночных фонаря.
– Не прогонит, говоришь?
– Нет, нет. Поди, милый. Рада, говорю, будет.
– А живет-то она где?
– Да вот сразу же за мостом. Первый дом справа.
Самонька стремительно встает, привычным движением рук распрямляет под ремнем складки, смотрится в зеркало, рядом со своим видит отражение радиоприемника, притулившегося в углу, на божнице, в добром соседстве с темными ликами святых. Не оглядываясь, спрашивает:
– Почему приемник-то молчит, тетенька?
– Корму, вишь, нету. В воскресенье старик поедет в район, купит.
– Чего купит?
– Корму.
– Питания, что ли? Батареи?
– Ну да.
Оглядев себя раз и два в зеркале, Самонька собирается уходить. У двери задерживается.
– А как же ее зовут, Журавушку вашу?
– Так и зовут – Журавушка.
– Что же, у нее имени нет?
– Как же, есть. Марфушка. Да назвал ее покойный муж Журавушкой – любил вишь, очень, – так и осталась…
– Ну, я пошел! – с легкой от нетерпения дрожью в голосе сказал Самонька и вышел на улицу.
Вернулся перед рассветом. Не включая лампы, разделся в темноте, быстро улегся на отданной ему хозяйской кровати.
Тетка Настасья лежала на печи. Проснувшись раньше гостя, она увидела на лице спящего, под правым его глазом, преогромный синяк – он жутко лиловел в предрассветных сумерках.
Старуха хихикнула, быстро спустилась на пол и загремела у печки ухватом.
Самонька приоткрыл подбитый глаз и украдкой глянул на хозяйку – к великому своему конфузу, узрел в уголках сморщенных ее губ ехидную ухмылку.
«Ах ты, старая ведьма! – гневно подумал он, пряча под одеялом лицо. – Постой, я те покажу Журавушку! Я не позволю смеяться надо мной!»
На рассвете вернулся дед Капля.
Самонька и Настасья завтракали. Воспылавший было жаждой отмщения, гость вел себя сейчас более чем тихо и скромно. Очевидно, он был благодарен тетке за то, что у нее хватило душевного такта не спрашивать у племянника, где тот приобрел дулю под правым глазом.
Однако Настасья не успела предупредить Каплю, чтоб и он поступил точно таким же образом, и роковой для Самоньки вопрос все же был ему задан:
Другие электронные книги автора Михаил Алексеевич Алексеев
Драчуны




 4.6
4.6
Мой Сталинград




 3.67
3.67