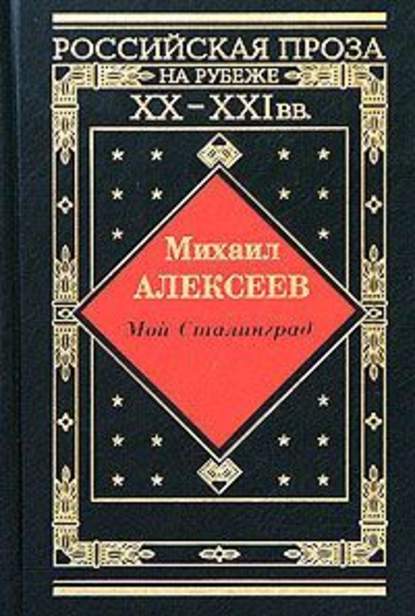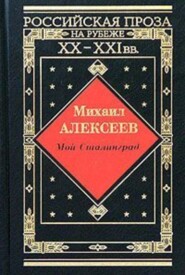По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мой Сталинград
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Дорогая Оля!
Поздравляю тебя с днем 25-й годовщины Октябрьской Социалистической Революции!
У меня сейчас необычайное настроение. Хочется сказать так много, так сильно, чтобы выразить всю глубину и сложность своих чувств в столь торжественный для нашей родины день…
Ты прости мне, Оля, обстоятельства не позволяют написать тебе большое письмо. Сейчас нахожусь в 50 метрах от немца и веду с ним такой разговор:
– Рус, хватит война! – кричит он мне.
– Что, фриц, надоело? – отвечаю и спрашиваю я.
– Рус, приходи к нам!
– Приду, приду обязательно, но только затем, чтобы убить тебя, вшивого!
Мой собеседник на некоторое время умолкает, и его сторону я пускаю длинную пулеметную очередь и сопровождаю ее словами:
– Фриц, ты жив?
Молчит.
Левее метрах в 100 от меня слышу уже другого:
– Рус, идем кашу есть!
– Пошел ты на… – кто-то совершенно по-русски ответил ему.
И фриц умолк. А я сел писать тебе это письмо. Как видишь, Оля, я жив и здоров. А это как будто нам обоим необходимо. Ведь что бы там ни было, а мы должны встретиться и окончательно оформить свою дружбу. Так ведь, пичужка ты моя? Мне очень хочется увидеть тебя. Оля, я очень жду от тебя письмо, когда я читаю его, мне становится теплее и уютнее в окопе: нежные ласки подружки моей согревают за многие сотни километров.
Вот сейчас мне трудно сосредоточиться, и письмо выходит неуклюжим. Но ты поймешь меня и простишь мне это… Будут условия, напишу тебе большое, замечательное письмо! Между прочим, я в свободные минуты работаю над книгой, пишу повесть. Уже написана большая часть, но, конечно, не обработана, некоторые отрывки из этой повести уже печатались в нашей фронтовой (читай: дивизионной. – М. А.) газете.
Как я работаю? Работаю примерно в сутки 24 часа. Днем иногда сижу в блиндаже и обрабатываю некоторые материалы, ночь провожу с бойцами, переползаю из окопа в окоп и беседую с ними, вселяю в них бодрость и уверенность в победе. В схватках с врагом приходится частенько и самому ложиться за пулемет, или наводить миномет в цель. Я теперь уже старший лейтенант.
Днем часика два засыпаю блаженным сном.
Конечно, все это делается под аккомпанемент артиллерийской канонады, трескотни автоматов и пулеметов. Но мы к этому как-то привыкли – необычная тишина нас больше пугает и настораживает.
Но все это вместе называется тяжелой жизнью фронтовика.
Вот и все. До свиданья, Оля. Пиши почаще. Если можешь, вышли фото.
Будь здорова и счастлива.
С приветом – твой Михаил Алексеев.
Привет от меня папе, маме, бабушке и Нюсе.
6/XI–42.
Адрес мой: 1704 ППС часть 13. Алексееву».
К этому довольно пространному письму потребуется мне, нынешнему, сделать комментарий чуть более подробный, чем предыдущие. Начать хотя бы с того, откуда это взялся старший лейтенант Алексеев, когда большую часть времени под Сталинградом он был в звании младшего политрука. Верно, так оно и было, когда он, то есть я был политруком минометной роты. И вдруг Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину пришла в голову мысль ликвидировать в нашей армии институт комиссаров и ввести в ней, армии, единоначалие. Политработники-то останутся, но они будут уже не комиссарами корпусов, дивизий, полков, батальона, батарей, а заместителями по политчасти командиров: соответственно то же самое должно было произойти и с политруками рот – они тоже сделались заместителями своих ротных командиров. Вроде – понижение на оду ступеньку, а в воинском звании вопреки, казалось бы, простой логике получилось повышение более чем на ту же ступеньку для большинства ротных политруков, которых сталинская реформа захватила в самом нижнем звании, существовавшей для политработников: младший политрук. Получилось так, что я был сразу же, в один миг, удостоен звания старшего лейтенанта. Но почему-то не остался в почти заново возрожденной моей минометной роте, а был избран, а точнее сказать, назначен ответственным секретарем комсомольского бюро 106-го стрелкового полка нашей 29-й стрелковой дивизии. В том же полку, в каком пребывала и долго еще пребудет моя полковая минометная рота. 82-х миллиметровые минометы предназначаются для батальонов и поэтому называются на военном языке батальонными. Но одну такую роту по штатному расписанию выделяют отдельно в прямое подчинение командира полка, что составляло предмет особой гордости для всех нас, оказавшихся как бы в привилегированном подразделении.
Так я оказался нежданно-негаданно комсомольским богом полка, а подчинялся другому богу, рангом повыше. Это был Александр Крупецков, капитан, всеобщий наш любимец, коего все мы знали со дня формирования дивизии в Акмолинске и вот до этой Сталинградской боевой страды. Должность его называлась: помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу. Для всех нас он как был Сашей, таким и оставался сейчас. Что касается меня, то новая должность не удаляла меня от окопов, а скорее приближала к ним, поскольку мои подчиненные, мои комсомолята обитали только на переднем крае и ни где больше со всеми вытекающими для них и для меня последствиями.
А что это за «последствия», рассказано в «Моем Сталинграде».
А это, самое длинное письмо, написано мною на шестой день нашего долгожданного контрнаступления под Сталинградом. Оно выглядит как развернутый свиток, коим пользовались древнейшие архивариусы. Сама желтая тонкая бумага, неизвестно где и каким образом добытая мною, и буквы, написанные не то чернилами, не то карандашом, не то ни тем, ни другим, ни третьим, а черт знает чем, может указать на то, что человек, готовивший этот свиток, очень старался, чтобы он подходил к случаю… нет, не к случаю, а историческому по сути своей событию. Речь ведь идет о начале решительного, коренного перелома не только в Отечественной, нашей то есть, а во всей Второй мировой войне.
А письмо-то мое, похожее на свиток, адресовалось всего-навсего одной девятнадцатилетней девушке!
«Дорогая Оля!
Получил твое письмо и, как всегда, был очень рад ему. Во-первых, разреши поблагодарить тебя за твою искреннюю заботу ко мне. Во всем, даже в оформлении самих писем, чувствуется эта забота. А сегодня я впервые получил от тебя большое письмо, на которое и спешу ответить тебе. Постараюсь написать побольше. И мне кажется, что это мое письмо будет немножко необыкновеннее, ибо всего, что я мыслю рассказать тебе в этом письме, не уложишь в рамки обыкновенного письма.
Дело в том, дорогая моя, что отклики, которые поступили к тебе на мое августовское письмо, меня глубоко тронули и утвердили во мне самые лучшие чувства к нашим людям тыла, которым мы обязаны сегодняшними успехами на Сталинградском фронте. Передай им мое сердечное спасибо, этим неутомимым труженикам.
Оля, я трое суток не отдыхал, трое суток я в фанатическом напряжении. Но я не утомился. Какое право я имею утомляться, когда в нашу западню попался зверь, и его надо уничтожить. Трудно себе представить и, тем более, описать, с каким вдохновением воюют наши люди! Сегодня я видел много крови, черной фашистской крови.
Вот я остановился у трупа немецкого солдата. Лежит, оскалив зубы, с остеклененными бесцветными глазами. Кто он, этот солдат? Ганс, Роберт? Адольф? Нет! Он просто фриц! А фриц – не человек. Меня подергивает судорога омерзения: вот этот самый фриц, который сейчас лежит в отвратительной позе, мечтал пожрать Россию, этот плюгавый орангутанг считал себя сверхчеловеком ? Сверх-человек, с огромной челюстью и низким лбом. Оно пришло, это немецкое ничтожество, построить «новый порядок». Мы узнали этот порядок – он нагадил нам и назвал это своим «новым порядком». И я гляжу на него, уже дохлого, и иронически думаю: вот эта гадкая козявка хотела сделать меня своим рабом. Глупый фриц! Он плохо знает нас. Да и где ему знать, узколобому! Он ведь не думал, что мы не захотим гнуть перед ним спину и слушать его обезьяний лепет. Ведь он не знал, что мы любим думать, а не орать, как он, свое «Хайль Гитлер!» И вот теперь, когда в его плоскую жизнь вмешалась русская «Катюша», фриц ошарашен. И он так и не успел догадаться, почему это так: его убили. А где-то далеко, в зловонной Гитлерии, живет его прожорливая самка с сучатами. Она, дура, не знает, что ее самец уже вытянул свои арийские лапы под Сталинградом. Она еще требует от него посылок. Пусть требует: он больше ничего ей не пришлет, и сука со своими щенятами подохнут. Не поможет ей и колченогий блудодей Геббельс: ведь его речами сыт не будешь. Скоро голодные гретхен огласят пустую «Фатерланд» истерическими воплями, и крикливому карлику не заглушить этого рева своих жадных волчиц, – они его проглотят вместе с его победными реляциями… Мы же считаем своим долгом ускорить этот процесс. Кое-что мы уже сделали в этом направлении…
Мужайся, мой народ, мой славный, умный и честный народ: близок час расплаты с немецкими бандюгами за ваше волнение, за слезы, за кровь наших людей – за все отомстим и уже мстим мы.
Надо иметь черствое сердце, чтобы не отдать себя целиком этой величественной борьбе, если ты человек, ты не можешь не представить себе всего народного горя, которое принес ему фашизм. Я мысленно иногда перекидываюсь в глухой украинский хуторок. Там может быть еще жив истерзанный ребенок, сын моего брата. И вот он, худенький, с тонкой шеей и большими черными, не по-детски серьезными глазами, просыпается рано утром, трет грязненьким сухим кулачком глаза и неизменно спрашивает: «А где папа?..» – «Родненький, нет папы», – ответит мать и сама заплачет, заплачет и ребенок…
Сколько детских слез пролито, сколько материнских сердец надорвано!..
Тысячи деток спрашивают: «Где мой папа?» Милые, невинные создания, поганый карлушка-колбасник искалечил ваше детство, он отнял у вас папу. Он, детки, зверь, он не поймет вашего горя, он не знает, не поймет, что вам надо папу, а не его, поганого Карлушку. Будь ты проклята, Германия, породившая на наше горе двуногих зверей?
Я вижу старушку-мать, потерявшую сына, я понимаю ее горе: ее кровь погибла от руки незванного немца.
Я вижу молодую женщину, потерявшую мужа, и мне также понятны ее слезы: ее кормильца убил немец.
Я вижу девушку в слезах, и мне понятны ее слезы: ее любимого, юного друга убил кровожадный карлушка-колбасник.
Вся Россия возненавидела немца. И вот сейчас она обрушилась всей своей тяжестью на него. И пусть я вижу кровь: она фашистская, а не человеческая.
Докапаем немца, и над нашей многострадальной Родиной на многие столетия воцарится покой и царство разума и правды. И идя в светлое будущее, все вперед и вперед, к вершинам человеческого счастья, наш народ когда-нибудь вспомнит и о нас, положивших конец бессовестному фашизму.
Придет время, и возродится все: возвысится над Днепром, как символ непокорности, памятник Тарасу Шевченко, брызнут к небу фонтаны Петергофа, даст Украине свет и счастье Днепрогэс, и увидит счастливая белокурая девушка светлые глаза своего любимого… Хочется, хочется сказать просто по божественному: «Мир дому сему!»
Это будет скоро, скоро будет это! Когда «Россия снимет с плеча винтовку и скажет: Ну, теперь – жить!» (И. Эренбург).
Оля, ты спрашиваешь, как мое здоровье. Скажу прямо, здоровье мое больше, чем прекрасное. И я очень рад, что мы всегда находим общий язык с моим многоуважаемым здоровьем. Я лично в данный момент вовсе не хочу болеть, и мое здоровье вполне со мною соглашается. Кроме шуток, я очень хорошо себя чувствую. Одели и обули нас превосходно, вооружили тоже превосходно.
Алексей, брат мой, жив и здоров, чувствует себя не совсем хорошо, естественно, что ему жаль своей семьи (жена брата и двое маленьких детей остались в оккупации в Сумской области, в том самом хуторке, помянутом мною в этом письме. – М. А.)
Ты прости мне, Оля, за это письмо: я сам понимаю, что оно не совсем выдержанное во всех отношениях. Но ты поймешь меня.
Другие электронные книги автора Михаил Алексеевич Алексеев
Драчуны




 4.6
4.6