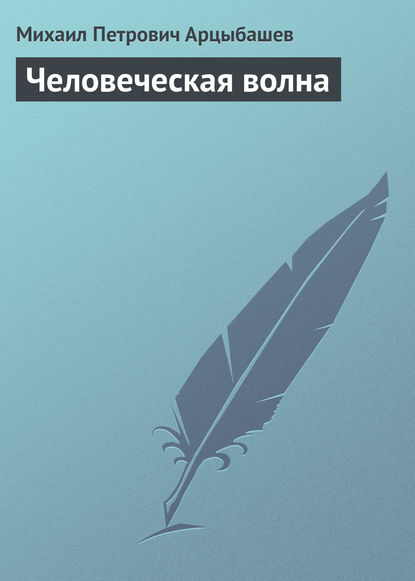По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человеческая волна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На улицах была пустота и сероватый мрак, указывающий на близость рассвета.
Шаги их чересчур громко отдавались в этой пустоте, и Лавренко озабоченно сказал:
– Будет очень скверно, если нас заберет патруль еще до завтра!
«Тогда мы будем в безопасности!» – мелькнуло в голове у Сливина, но он тотчас же поймал себя на этой мысли и мучительно покраснел.
– Ах, Анатолий Филиппович, – с болезненным раскаянием выговорил он, – если бы вы знали, какой я трус!
– Я тоже трус, – ласково ответил Лавренко и махнул рукой. – Не в том дело, голубь мой!..
– А не поиграть ли нам в последний раз на бильярде? Тут я знаю один извозчичий трактирчик такой… – спросил вдруг Лавренко, и ему самому было стыдно, что он говорит о бильярде. Ему всегда было неловко приглашать играть, потому что казалось, будто он уже всем решительно надоел своим вечным бильярдом и что только из деликатности соглашаются с ним играть.
– Поздно уже… – с искренним сожалением, что не может удовлетворить желания Лавренко, к которому чувствовал нежное уважение, ответил Сливин.
– Да!.. Поздно!.. – согласился Лавренко, с трудом разобрав на часах два с четвертью. – Ну, до свидания, голубь мой!.. Завтра, может быть, не увидимся?.. Вы где будете?..
– Я на заводе Костюковского. Прощайте, голубчик!..
Они крепко, хотя немного стесняясь, поцеловались, и оба почувствовали теплую, грустную нежность друг к другу.
– Ну, прощайте, голубь, не поминайте лихом, коли что!..
Высокая фигура Сливина, зыбко маяча во мраке, повернула за угол, и опять Лавренко остался один. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы было куда-нибудь пойти, встретиться с дорогим человеком, который пожалел бы его и боялся бы за него. Он вздохнул и медленно пошел по тротуару, грузно шагая и постукивая тростью.
Он вспомнил Зарницкого и стал думать о нем:
«Ведь вот куча мускулов и мяса, вся жизнь его в том, что эта здоровая, красивая куча мяса ест, пьет, спит и совокупляется с женщинами… Такая физиологическая жизнь продолжится и за гробом, и после смерти эта куча мяса не исчезнет без следа, а будет разлагаться, претворяться, потом опять есть, опыляться и так без конца… Казалось бы! А между тем он боится смерти, может быть, во сто раз больше, чем те, которые живут самой тонкой духовной жизнью, которой действительно конец за гробом… Да… Ну, так что же?»
Лавренко запутался, тоскливо махнул рукой и пошел дальше…
Не доходя до перекрестка, он вдруг остановился и прижался под воротами.
Показались из-за угла, перешли улицу и вновь скрылись за углом четыре черные одинаковые фигуры, и, когда проходили под слабым светом подворотного фонарика, один за другим, над ними тускло блеснули четыре штыка. В груди у Лавренко все сжалось и притаилось.
В гулком ночном мраке звонкие шаги вооруженных людей отчетливо проговорили о близости смерти и смолкли в безвестном отдалении.
V
Проводив гостей, Зарницкий вернулся в кабинет и опять стал ходить взад и вперед, заложив руки за спину и глядя на носки своих светло вычищенных сапог. Он был так же массивен, красив и изящен, как всегда, но какая-то неуловимая растерянность вдруг появилась на лице, в беспокойном выражении глаз и в чуть заметном дрожании пальцев.
Пока вокруг были другие люди, перед которыми для Зарницкого было немыслимо не выказывать себя самым умным, самым храбрым, самым честным и самым твердым человеком, ему было легко не думать. Но когда он остался наедине с самим собою, словно какой-то флер спал с его души, и голо и коротко встал перед ним беспощадный настойчивый вопрос, которого он никогда не подозревал и который теперь вдруг оказался неотложным и неотвратимым.
Всю свою жизнь Зарницкий был непоколебимо убежден, что он самый красивый, самый блестящий и смелый человек в свете. То, что его любили женщины и с восторгом отдавались на забаву его холеному, сильному и здоровому телу, то, что он был ловким и действительно прекрасным хирургом, то, что он был революционером и шесть месяцев просидел в одиночке, откуда вышел таким непреклонно убежденным, каким и вошел, приучило его верить в себя и никогда не задавать вопроса, действительно ли он так прекрасен и силен.
Он всегда верил, что если будет революция, то он станет во главе ее. С его красноречием, храбростью и убежденностью он не может не выдвинуться в первые ряды и не стать, как ему рисовалось, членом конвента, народным трибуном, вождем. И мысль об этом опьяняла его романтическим восторгом, и даже смерть на гильотине казалась ему только последним мрачно красивым аккордом.
Еще когда он был студентом, ему как-то пришлось в обществе красивых, чуть не поголовно влюбленных в него девушек сказать:
– Лучше тридцать лет жить, да пить живую кровь, чем жить триста лет, да питаться мертвечиной.
И он сказал это с искренним убеждением и часто повторял потом все с таким же убеждением.
И вдруг оказалось, что мысль о том, что его могут завтра убить, леденит ему кровь, и совершенно определенно, ясно и неотвратимо он понял, что боится смерти и не пойдет на нее.
«Так, значит, – я трус?..» – мучительно краснея и как будто стараясь, чтобы мысль эту не слышал даже он сам, растерянно подумал Зарницкий.
«Да, трус!» – отвечало что-то в глубине его массивного красивого тела, сжавшегося безвольно и пугливо. И весь многолетний мираж красоты, смелости и обаяния вдруг слетел, и Зарницкому показалось, что он гол, слаб и растерян, как гаденький, подленький зверек, с которого содрали блестящую шкурку.
С беспощадной иронией, вдруг непонятно возникшей из неуловимых сплетений мысли, он вспомнил шутливый афоризм одного приятеля:
«Познай самого себя… и познав, не впадай в уныние».
Эта внезапная, противувольная и непонятная насмешка над самим собою была так мучительна, что у него потемнело в глазах, и весь кабинет с его внушительной строгой мебелью тихо поплыл кругом.
«Не надо думать об этом!.. – как будто прося кого-то жестокого и безжалостного, подумал Зарницкий. – Это так… нервы расходились… Надо лечь спать… а там посмотрим!»
Но вместо того он опять заходил по кабинету, и все движения его стали уже растерянными, короткими, порывистыми, и, чувствуя это, он начал невыносимо страдать. Можно было думать, можно было забыть или помнить, но завтрашний день, а с ним смерть придут, и нельзя будет не пережить их.
– Ах, если бы проснуться и увидеть, что все уже прошло… Будет же когда-нибудь все это прошлым…
Мысль о том, чтобы стрятаться, увернуться от опасности и что это очень легко и можно устроить так, что очень немногие, а быть может, и никто не догадается, уже была у него в мозгу, тонкая, как уж, юркая и трусливая, но он старался думать, что даже мысли об этой мысли у него нет, потому что у него ее не может быть.
«Не всех же убьют», – думал он словами, логически и ясно, и как бы то ни было, а отступления не может быть и будь что будет.
Но тут же за этими словами, как будто гораздо глубже их, неуловимая, бессловная мысль, как мышь в мышеловке, быстро и все очевиднее и яснее для него описывала круги, отыскивая и изобретая все возможные способы обмана и увертки.
И окончательно уже видя, что все это так и есть и что он не пойдет завтра никуда, Зарницкий все-таки сам не знал, пойдет или не пойдет, и был уверен, что такой человек не может даже думать, чтобы не пойти. Было похоже на то, будто его мозг утратил связь и цельность, и каждая частица его думает свое. И путаница эта отдаленно напомнила о сумасшествии.
А в груди было простое чувство искреннего стыда и грусти о безвозвратно утраченной отныне вере в свою красоту и превосходство над всеми людьми.
Зарницкому захотелось плакать, просить у кого-то снисхождения и жаловаться, как будто его обижают незаслуженно, и бить себя головой о стену с презрением, плевками и пощечинами, как последнюю тварь. Он представил себе свою красивую фигуру с избитыми, заплеванными холеными щеками, и это даже доставило ему мучительное наслаждение.
Зарницкий остановился посреди кабинета и широко открытыми воспаленными глазами уставился на стену, ничего не видя перед собой.
«Но ведь разве можно будет жить после этого?» – с отчаянием и ужасом спросил он себя.
«Нельзя!» – ответила первая мысль, и стало очевидно, что после этого никогда нельзя будет чувствовать себя таким красивым и счастливым, нельзя будет заглянуть в лицо тысячам людей.
«Можно будет уехать куда-нибудь подальше, где никто не знает!» – одновременно под этой мыслью проскользнула другая, и опять было очевидно и то, что нельзя уехать, и то, что он уедет, и что нельзя жить, и что все-таки он переживет.
Холодный пот выступил на лбу Зарницкого, и лицо его исказилось.
«Да, лучше не думать!.. – опять сказал он себе и, взяв лампу, пошел в темную спальню. Тысячи мыслей со всех сторон набежали на него, как тот мрак, который бежал за лампой, но, упрямо стиснув зубы и притворяясь, что всецело поглощен сниманием сапог и брюк, он каждую упрямо отражал и затемнял. – Я вовсе не думаю об этом, не думаю, вот и не думаю вовсе… Там будет видно! Может быть, это вовсе и не так страшно… и на самом деле я окажусь героем…»
Но как только лег и вытянулся под мягким одеялом на чистой и приятно свежей холодной простыне, сейчас же поймал себя на том, что раз он говорил себе, что не надо думать «об этом», то, следовательно, он думает об этом, и понял, что действительно думает.
Тоска охватила его, и, как всегда, он почувствовал, что если заняться своим телом, то будет легче. Тогда он насильно встал с постели и в одном белье, большой, сильный и красивый, пошел в комнату к горничной Тане. В комнате у Тани светила лампадка и оттого было уютно и пахло чистотой и сном. Таня уже спала, и спящая не была похожа на горничную. Кружево сорочки, которую купил ей Зарницкий, обнажая круглое смуглое плечо, придавало ей вид пышный и сладострастный. Она проснулась, когда Зарницкий стал ложиться рядом на согретую ею постель, и, открыв темные острые глазки, улыбнулась ему как-то особенно, с почтением прислуги и уверенностью женщины в том, что она нужна и приятна. От нее раздражающе пахнуло на Зарницкого странным смешанным запахом чистого, пахнущего мылом белья, сонной женщины и чем-то похожим на мускус. Он вдруг почувствовал привычное неудержимое сладострастие своего переполненного жизненными соками тела, и, действительно, забывая все мысли и все мучения, стал целовать ее в мягкую, упругую и бархатистую грудь, одной рукой уже стягивая с ее ног и живота рубашку и вздрагивая от прикосновений своих холодных пальцев к неуловимо нежной, горячей, как огонь, коже ее молодого крепкого тела.
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5