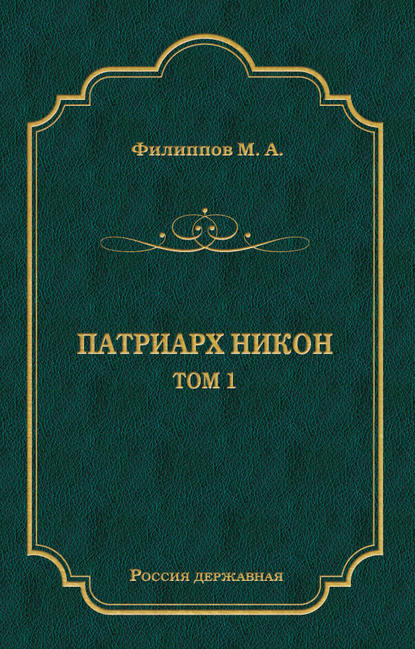По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Патриарх Никон. Том 1
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Постельничий царский управлял этим людом, и часть царицыной Золотой палаты занята была для потех.
Хоромы же царя были скорее похожи на дворец зажиточного боярина, чем на царские палаты; только выезды его, с боярами, окольничими, конюхами и скороходами, напоминали Москве, что в Грановитой палате живет царь.
Выехал Михаил Федорович после обедни в тот день, когда отец Никита представлялся патриарху, сначала к инокине-матери, а потом к отцу.
Патриарх принял сына в той же комнате, в который мы видели отца Никиту.
Он обнял его и поцеловался с ним, а тот потом поцеловал у отца руку.
Патриарх сам сел у стола, а сын поместился на стуле против него.
– Недобрые вести,?– начал патриарх,?– от свейского короля Густава-Адольфа; отказывается он сватать за тебя сестру своего шурина курфюрста Бранденбургского, Екатерину… Пишет он, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения.
– И бог с нею,?– отвечал царь Михаил.
– Это все,?– продолжал патриарх,?– мутят поляки. Дать нам сродниться со шведами не хотят они, боятся, что будут они нам союзниками, да, породнившись с царскими домами немцев, мы поспорим тогда и о польской короне.
– Но ведь насильно ничего не сделаешь,?– вздохнул царь Михаил Федорович,?– а жениться пора, все бояре да и все родственники так говорят… Годы мои уже такие.
– Была у тебя, сын мой, невеста, и богобоязненная, и добрая, и почтительная, Марья Ивановна Хлопова.
– Да, была она мила моему сердцу: жила во дворце под одною кровлею со мною; дружила с сестрицею моею царевною Татьяною Михайловною, да вот лихая болезнь приключилась, навек испорчена…
– И царица мать-инокиня любила и жаловала ее, царицей нарекла, Анастасьей именовала, в память бабки твоей Анастасии Романовны, жены царя Ивана Грозного,?– продолжал патриарх.
– Такова воля Божья,?– смиренно произнес царь Михаил.
– А коли б Марья Ивановна была не испорчена, женился бы ты и теперь на ней, мой сын?
– Уж очинно мила она была моему сердцу,?– произнес, опустив глаза, царь Михаил.
– Что же скажешь ты, коль окажется, что она николи испорчена не была, да и теперь жива?
– На то будет соизволение и твое и матушки-инокини, я всякое родительское благословение приму с благодарностью.
– Ладно, сын мой, сегодня же соберу синклит родственный, бояр: Ивана Никитича Романова, Ивана Борисыча Черкасского, Федора Ивановича Шереметьева, и коль ты соизволишь заехать ко мне, то мы совершим сыск с божьей помощью. Только никому не говори, а наипаче матери, пока дела не соорудуем.
– Беспременно приеду ужо, опосля вечерни,?– обрадовался царь, простился с отцом и вышел. После царского ухода патриарх послал тотчас за родственниками и велел быть к себе кравчему Михаилу Салтыкову и придворным врачам: доктору Валентину Бильсу и лекарю Бальцеру.
Все эти лица съехались вечером к патриарху и оставались в сенях, пока не появился царь; когда же тот вышел из колымаги, родственники его пошли за ним в патриаршую переднюю к заседанию: стол со скамьями, а для царя и патриарха кресла; горели люстры с восковыми свечами. Патриарх принял царя посередине передней и, поцеловавшись с ним, повел его к креслу; бояре разместились за столом. Потребовал патриарх, чтобы окольничий Стрешнев ввел Салтыкова.
Вошел Салтыков, поклонился образам, потом в ноги царю, патриарху и синклиту и, поднявшись, остановился против царя.
Начал патриарх:
– Расскажи-ка, боярин Михайло, как невеста царя заболела болестию неизлечимою.
Салтыков стал рассказывать, как это прежде он делал, что невеста царская страдает болезнею прирожденною, колики в животе схватывают, а там с нею обмороки, точно болезнь черная.
– Как же,?– спросил патриарх,?– ты узнал это?
Салтыков рассказал, что со времени переезда Марьи Ивановны во дворец часто с нею случались эти боли, а потом она попросила лекарства, и он взял его от доктора Бильса и лекаря Бальцера.
Патриарх велел позвать врачей. Оба вошли. Доктор был высокий, сухопар, с желтым лицом, а второй – толстенький, с жирными щеками и маленькими глазками.
Войдя, оба иностранца поклонились низко, дотрагиваясь руками до земли.
Патриарх обратился к доктору:
– Расскажи-ка нам, что за болесть была у бывшей царской невесты Марьи Ивановны?
– Болесть?..?– Он вынул носовой платок, вытер нос и пот и произнес протяжно: – Dispepsia.
– Dispepsia,?– вторил ему помощник его, причем облизал губы, как будто он что-то проглотил очень вкусное.
– Dispepsia,?– сказал патриарх,?– это по-латыни значит расстройство желудка.
– Да, да, святейший патриарх, расстройство на желудка и на кишка. Бывает иногда и disenteria, а иногда и febris gastrica, но я дал… о что, герр Бальцер, мы дали тогда?
– Ревень.
– Да, да, ревень… на водка настой… Хорошо… очень хорошо… и на кишка… и на желудок…
– Один порций довольно,?– поддержал его товарищ,?– маленка стаканчик…у…у… очистит…
– А вы же много отпустили из аптеки? – продолжал допрашивать патриарх.
– Одна стеклянка большой, чего жалеть; на дворце мы не жалей,?– произнес с достоинством толстый лекарь.
– А ты по скольку давал Марье Ивановне? – обратился к Салтыкову патриарх.
– Не помню, давно уже то было.
– Говори,?– грозно произнес патриарх,?– иначе допрос будет с испытом и со стряской.
– Три раза в день: натощак, пред обедом и вечером.
– И сколько времени? – изумился патриарх.
– Более месяца.
– Для какой же надобности взял у вас целую стеклянку большую, коли довольно маленькой чарки? – обратился патриарх к врачам.
– Боярин сказайт, много на дворец больной на живот,?– отвечал доктор.
– И на кишки,?– дополнил толстяк.
– Довольно, все сказали, теперь идите, господа лекаря, с миром, а?Салтыкова в темницу до окончания суда над ним,?– обратился он к стоявшему у дверей залы Стрешневу.