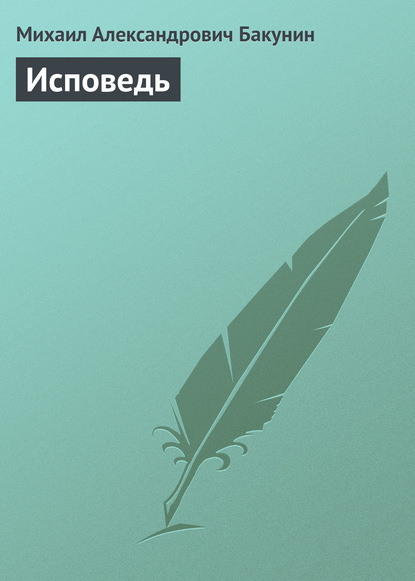По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Год написания книги
1851
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вообще все прусские владения с угрозою, что если я возвращусь, то меня выдадут русскому правительству. Я, разумеется, после такой угрозы уж и не пробовал возвращаться. Хотел остановиться в Дрездене, но и оттуда был изгнан – по недоразумению, как сказал потом министр, и на основании древнего требования российского посольства.
(NB)
Таким образом гонимый из края в край, я утвердился наконец в Ангальт-Кэтенском царстве, которое странным образом, находясь посреди прусских владений, пользовалось тогда вольнейшею конституциею не только в Германии, но, я думаю, в целом мире и сделалось вследствие того, хоть и ненадолго, убежищем для политических изгнанцев.
Я нашел в Кэтене несколько старых знакомых, с которыми учился вместе в Берлинском университете. Там были также и законодательное и народные собрания и клуб и St?ndchen и Katzenmusik (Серенады и кошачьи концерты), ни в сущности никто почти не занимался политикою, так что до половины ноября я с своими знакомыми не знал почти других занятий кроме охоты на зайцев и на других диких зверей. Это было для меня время отдыха.
Мой отдых продолжался недолго. Судьба готовила мне гробовой отдых в крепостном заключении. Еще в октябре месяце, когда бан Елачич, миновав Пешт (В оригинале «Пест» (Будапешт), пошел прямо на Вену, а генерал князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу, я хотел было ехать в сей последний город, желая возбудить чешских демократов к вторичному восстанию. Однако раздумал и остался в Кэтене. Раздумал же потому, что не имел еще сношений с Прагой и не знал, какие перемены могли произойти там после июньских дней и какое было тогда направление умов; с демократами был плохо знаком и не надеялся на успех, ожидал же напротив сильного противодействия со стороны чешско-конституционной партии Палацкого.
В Праге, думал я, меня уже давно успели забыть, и отчасти для того, чтобы напомнить о себе пражским жителям, и для того, чтобы дать по возможности славянскому движению направление другое, более сообразное с моими собственными как славянскими, так и демократическими ожиданиями, отчасти же для того, чтобы доказать полякам и немцам, что я – не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними, я начал писать воззвание к славянам «Aufruf an die Slaven», которое и было напечатано потом в Лейпциге.
Оно находится также в числе обвинительных документов.
Я писал его долго, более месяца; откладывал, потом опять за него принимался, несколько раз изменял и долго не решался печатать. Я не мог выразить в нем чисто и ясно своей славянской мысли, потому что хотел опять сблизиться с немецкими демократами, считая сближение сие необходимым, и должен был лавировать между славянами и немцами, – род плавания, к которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще менее охоты. Я хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мадьярскими демократами. Обстоятельства уже были не те, как в мае: революция ослабла, реакция везде усилилась, и только соединенными силами всех европейских демократий (В оригинале «демокраций») можно было надеяться победить реакционерный союз правителей.
В ноябре вслед за венскими происшествиями было распущено также насильственным образом Прусское конститутивное собрание.
Вследствие сего в Кэтене собралось несколько бывших депутатов и между прочими Гекзамер и Дестер, члены центрального комитета всех демократических клубов в Германии. Комитет сей был впрочем не тайный, быв избран незадолго перед тем в публичных заседаниях демократического конгресса в Берлине. Но он стал вскоре основывать тайные общества в целой Германии, и можно сказать, что немецкие тайные общества начались только с этого времени.
Без всякого сомнения существовали и прежде некоторые, а именно коммунистические, но они оставались решительно без всякого влияния. До ноября месяца все делалось публично в Германии: и заговоры и бунты и приуготовления к бунтам, и всякий мог знать о них, кто только хотел.
Избалованные революциею, как бы упавшею с неба без всякого усилия с их стороны, почти без кровопролития, немцы долго не могли убедиться в возраставшей силе правительств и в своем собственном бессилии; они болтали, пели, пили, были ужасны на словах, дети в деле, и думали, что свободе их не будет конца, и что стоило им только немного поморщиться, для того чтобы привести все правительства в трепет. Происшествия в Вене, в Берлине научили их однако противному; тут они поняли, что для удержания легко приобретенной свободы они должны были принять меры более серьезные, и вся Германия стала готовиться тайно к новой революции.
Я Дестера и Гекзамера видел в первый раз в Берлине, но тогда еще был мало с ними знаком, ибо удалялся от них, равно как и от всех прочих людей, немцев и поляков. В Кэтене познакомился с ними ближе; они сначала мне не доверяли, думая в самом деле, что я-шпион; потом однако поверили. Я с ними много говорил и спорил о славянском вопросе; долго не мог убедить их в необходимости для немцев отказаться от всех притязаний на славянские земли; наконец успел убедить их и в этом.
Таким образом начались наши политические сношения – первые положительные сношения с определенною целью, которые я имел с немцами да и вообще с какою бы то ни было действующею политическою партиею. Они мне обещали употребить все свое влияние на немецких демократов, для того чтобы искоренить из оных ненависть и предубеждения против славян; я же им обещал действовать в таком же духе на последних. Сим ограничились на первый раз наши взаимные обязательства. Так как они уже меня не боялись, то я знал об их замыслах, приуготовлениях, об образовании тайных обществ, слышал также и о только что тогда начинавшихся сношениях с иностранными демократами, но решительно сам не вмешивался в их дела, даже не хотел спрашивать, опасаясь возбудить в них новые подозрения. Сам же спешил окончить «Воззвание к славянам», которое и напечатал вскоре потом в Лейпциге.
В конце декабря отчасти для того, чтобы быть ближе к Богемии и жить в городе, представляющем более средств для сношений со всеми пунктами, чем Кэтен, отчасти же и потому, что [я] услышал, что прусское правительство намеревалось перехватать всех удалившихся в сей последний, я вместе с Гекзамером и Дестером переселился в Лейпциг.
Там случайно познакомился с несколькими молодыми славянами, имена и качества которых подробно изочтены в австрийских обвинительных документах. Между ними находились два брата: Густав и Адольф Страка, чехи, учившиеся тогда богословию в Лейпцигском университете. Они оба – добрые и благородные молодые люди, прежде знакомства со мной не думавшие о политике, хотя были оба – и ревностные славяне, и их погибель, мной одним причиненная, есть великий грех на моей душе. Прежде моего приезда в Лейпциг они были мнения совершенно противного моему, большие почитатели Елачича; к их несчастью я встретился с ними, увлек их, переменил их образ мыслей, оторвал от мирных занятий и уговорил их быть орудиями моих предприятий в Богемии; и теперь, если бы мог облегчить их участь ухудшением моей собственной, я с радостью понес бы на себе их наказание. Но все это поздно! Кроме их впрочем на моей душе не было ни прежде, ни в это время, ни потом ни одного увлеченного. Только за них я должен отвечать богу.
Через них именно я узнал, что мое «Воззвание к славянам» нашло сильный отголосок в Праге; что даже отрывок из него был переведен и напечатан в одном демократическом чешском журнале, редактором которого был д-р Сабина. Это породило во мне мысль созвать некоторых чехов и несколько поляков в Лейпциг на совещание и на уразумение с немцами, с целью положить первое основание для общего революционерного действия. Вследствие сего я послал Густава Страку в Прагу с поручением к Арнольду, также редактору одного демократического чешского листа (Газеты), и к Сабине («Я должен тут заметить, что я с Густавом Страка послал также и адрес к „Славянской Липе“, чешскому более или менее демократическому клубу, но что Сабина удержал оный у себя, найдя его слишком опасным». (Примечание М. Бакунина.), которых впрочем знал тогда только одни имена, не быв еще знаком с ними лично.
Писал также в Герцогство Познанское тем из моих польских знакомых, от которых более чем от других мог надеяться сочувствия и содействия. Но из поляков решительно никто не приехал, даже никто не отвечал мне; из Праги же приехал только один Арнольд, не дозволивший Страже позвать также и Сабину – отчасти потому, что не доверял ему, отчасти же, я думаю, и по мелкой зависти. Все сии обстоятельства, открытые впрочем не мною, по самим Арнольдом и братьями Страка, подробно изложены в австрийских обвинительных актах. Я не буду входить, государь, в мелочные подробности, необходимые в инквизиционном следствии для открытия истины, но ненужные и неуместные в самовольной и простосердечной исповеди. Упомяну же впродолжение сего рассказа только о тех обстоятельствах, которые необходимы для связи, или о тех существенных фактах, которые остались неизвестными обеим следственным комиссиям.
Приступая к описанию последнего акта моей печальной рево-люционерной карьеры, я должен сначала оказать, чего я хотел, потом стану описывать сами действия.
Моя политическая горячка, раздраженная и разгоряченная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего странного положения, а наконец и победою реакции в Европе, достигла в то время своего высочайшего пароксизма: я был весь превращен в революционерное желание, в жажду революции и был, я думаю, между всеми червленными республиканцами и демократами червленнейшим. План мой был следующий.
Немецкие демократы готовили всеобщее повстанье Германии к весне 1849 года. Я желал, чтобы славяне соединились с ними, а равно и с мадьярами, находившимися уже тогда в явном и решительном бунте против императора австрийского.
Желал, чтобы они соединились как с теми, так и с другими, не для того чтобы слиться с Германиею или покориться мадьярам, но для того чтобы вместе с торжеством революции в Европе утвердилась также и независимость славянских племен. Время же казалось удобно для такого уразумения; мадьяры и немцы, наученные опытом и нуждаясь в союзниках, были готовы отказаться от прежних притязаний. Я надеялся, что поляки согласятся быть посредниками между Кошутом и славянами венгерскими, и хотел взять на себя посредничество между славянами и немцами. Я желал, чтобы центром и главою сего нового славянского движения была Богемия, а не Польша. Желал того по многим причинам: во-первых потому, что вся Польша была так истощена и деморализована предыдущими поражениями, что я не верил в возможность ее освобождения без чужой помощи, в то время как Богемия, почти еще не тронутая реакциею, пользовалась в то время полною свободою, была сильна, свежа и заключала в себе все нужные средства для успешного революционерного движения.
Кроме этого я не желал, чтобы поляки стали во главе предполагаемой революции, боясь, что они или дадут ей характер тесный, исключительно польский, или даже пожалуй, если им это покажется нужно, предадут прочих славян своим старым союзникам, западно-европейским демократам, а еще легче мадьярам. Наконец я знал, что Прага есть как бы столица, род Москвы для всех австрийских, непольских славян, и надеялся, я думаю, не без основания, что если Прага восстанет, то и все прочие славянские племена последуют ее примеру и увлекутся ее движением – наперекор Елачичу и другим, впрочем не столь многочисленным, приверженцам австрийской династии.
Итак от немцев я ожидал согласия, симпатии, а если нужно будет, так и вооруженной помощи против прусского правительства, которое, увлекшись российским примером и опасаясь заразы, не захотело бы вероятно быть бездейственным зрителем революционерного пожара в Богемии. От поляков ожидал посредничества с мадьярами, участия, офицеров, а более всего денег, которых у меня не было и без которых всякое предприятие становится невозможным. Но мои главные ожидания и надежды сосредоточивались на Богемии.
Я надеялся еще более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще.
Огромная ошибка немецких да сначала также и французских демократов состояла по моему мнению в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в села; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против нее враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче, как возбудить революционерный дух в земледельческом классе, – особливо в Германии, где еще существовало так много остатков древних феодальных постановлений, удручающих землю, не исключая также и самой Пруссии, которая при общей свободе собственности и людей сохранила в некоторых провинциях, напр. в Шлезии (Силезии), следы прежнего подданства (Крепостной зависимости), и в которой возле впрочем довольно многочисленного класса вольных собственников существует класс еще многочисленнейший неимущих крестьян, так называемых H?usler (Безземельный крестьянин) и даже совсем бездомных людей.
Но нигде земледельческий класс не был так склонен ж революционерному движению, как в Богемии. В Богемии до 1848 года феодализм существовал еще во всей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями: господские суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другие духовные повинности подавляли собственность имущих крестьян. Класс же неимущих был еще многочисленнее, и положение его тягостнее, чем в самой Германии. К тому же в Богемии есть много фабрик, а вследствие того и много фабричных работников, а фабричные работники как бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды.
В 1848-ом году все притеснения, предметы вечных неудовольствий и жалоб крестьян, все старые налоги, многосложные обязательства и работы остановились; остановились вместе с дряхлою жизнью политического организма австрийской монархии. Но только остановились, не уничтожились. За притеснением последовала анархия. Правительство, испуганное, совсем потерявшееся, хватавшееся решительно за все, чтобы спасти себя от совершенного потопления, вспомнило свою демократическую уловку 1846 года в Галиции и объявило вдруг без всяких предварительных мер неограниченную и безусловную свободу собственности и крестьян.
Агенты его покрыли богемскую землю, проповедуя благость правительства. Но в Богемии отношения совсем не те, как в Галиции. В Богемии притесняющий и ненавидимый класс богатых собственников, дворян, аристократии состоит не из польских заговорщиков, а из немцев, душою и телом преданных австрийской династии, преданных еще более австрийскому старому, столь для них выгодному порядку вещей. Народ перестал ходить на барскую работу, не захотел также и платить других податей кроме государственных да и те платил скрепя сердце, совсем не охотно. Класс собственников, дворяне, аристократия, одним словом все, что составляет собственно австрийскую партию в Богемии, обнищало, обессилело; и при всем том правительство не приобрело ничего, ибо народ, всегда охотно следовавший учению чешских патриотов, не возымел к нему за великий подарок свободы, сделанный не во-время, ни особенной любви, ни благодарности. Напротив [он] не доверял правительству, слыша, что оно находилось под влиянием аристократии, и опасаясь беспрестанно, чтобы оно не вздумало возвратить его вновь к старому подданству. Наконец необыкновенные рекрутские наборы, повторенные несколько раз в продолжение одного года, пробудили в богемском народе всеобщий ропот и совершенное неудовольствие. При таковом расположении легко было подвигнуть его к восстанию.
Я желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. Пользуясь тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии да и вообще весь класс богатых собственников состоит исключительно из немцев, я хотел изгнать всех дворян, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между неимущими крестьянами для поощрения сих к революции, отчасти же превратить их в источник для чрезвычайных революционерных доходов.
Хотел разрушить все замки, сжечь в целой Богемии решительно все процедуры, все административные, равно как и судебные, как правительственные, так и господские бумаги и документы, и объявить все гипотеки, а также и все другие долги, не превышающие известную сумму, напр. 1000 или 2000 гульденов, заплаченными.
Одним словом революция, замышляемая мною, была ужасна, беспримерна, хоть и обращена более против вещей, чем против людей. Она бы в самом деле все так переворотила, так бы въелась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом. Такая революция, уже не ограничивающаяся одною национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленноенною пропагандою не только Моравию и австрийскую Шлезию, но также и прусскую Шлезию да и вообще все пограничные немецкие земли, так что и германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную.
Но сим не ограничивались мои замыслы. Я хотел превратить всю Богемию в революционерный лагерь, создать в ней силу, способную не только охранять революцию в самом краю, но и действовать наступательно, вне Богемии, возмущая на пути все славянские племена, призывая все народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийского существования, – идти на помощь мадьярам, полякам, воевать одним словом против Вас самих, государь!.
Моравия, издавна связанная с Богемиею своими историческими воспоминаниями, обычаями, языком и никогда не перестававшая смотреть на Прагу как на свою столицу, а тогда находившаяся с ней еще и в особенной связи посредством своих клубов, Моравия, думал я, необходимо последует за богемским движением. С нею вместе увлекутся также и словаки и австрийская Шлезия. Таким образом революция обоймет край пространный, богатый средствами, центром которого будет Прага.
В Праге должно заседать революционерное правительство с неограниченною диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих для совета и как библиотека для статистических справок. Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти. Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю, для того чтобы дать ему провизорную революционерную и воинскую организацию. Народные массы должны бы были быть разделены на две части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, оставались бы дома для охранения нового порядка и были бы употреблены на партизанскую войну, если бы такая случилась. Молодые же люди, все неимущие, способные носить оружие, фабричные работники и ремесленники без занятий, а также и большая часть образованной мещанской молодежи, составила бы регулярное войско, не Freischaren (Волонтерские отряды), но войско, которое должно бы было формировать с помощью старых польских офицеров, а также и посредством отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины.
Издержки были бы огромные, но я надеялся, что они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями вроде кошутовских. У меня был на то особенный, более или менее фантастический финансовый проект излагать который здесь было [бы] не у места.
Таков был план, придуманный мною для революции в Богемии. Я изложил его в общих чертах, не входя в дальнейшие подробности, ибо он не имел даже и начала осуществления, никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в моей повинной голове, да и в ней образовался не вдруг, а постепенно, изменяясь и пополняясь сообразно с обстоятельствами. Теперь же, не останавливаясь на политической и нравственной ни на политически-криминальной критике сего плана, я должен Вам показать, государь, какие у меня были средства для приведения в действие таких огромных замыслов.
Во-первых я приехал в Лейпциг, не имея [ни] копейки денег, не имел даже довольно для своего собственного бедного пропитания, и если бы мне Рейхель не прислал вскоре малую сумму, то я не знал бы решительно, чем и как жить, ибо для своих предприятий я по совести мог просить и требовать денег у других, но не для себя.
Деньги мне были необходимы. «Sans argent point de suisses!» («Без денег нет швейцарцев»), говорит старая французская пословица, а я должен был создать решительно все: сношения с Богемиею, сношения с мадьярами, должен был создать в Праге партию, соответствующую моим желаниям, на которую бы я мог потом опереться для дальнейшего действия. Я говорю «создать», ибо когда я приехал в Лейпциг, не было еще даже и тени начала какого-либо действия, все же существовало только в моей мысли.
От Дестсра и Гекзамера я денег требовать не мог; их средства были весьма ограничены, несмотря на то, что они вдвоем составляли Центральный демократический комитет для целой Германии; они собирали род налога со всех немецких демократов, но он был недостаточен даже для того, чтобы покрыть их собственные политические расходы. Я надеялся на поляков, но поляки на мой зов не приехали. Мои новые отношения с ними, а именно с польскими демократами, начались в Дрездене, и я могу сказать по совести, что до самого марта 1849 года я никогда в жизни не имел политических связей с поляками, да и те, в которые я было вошел с ними в марте месяце, не успели развиться. Итак денег у меня не было, а без денег мог ли я что предпринять? Хотел я было ехать в Париж отчасти за деньгами, отчасти чтобы войти в сношения с французскою и польскою демократиями, а наконец и для того, чтобы познакомиться там с графом Телеки, бывшим посланником или вернее агентом Кошута при французском правительстве, и войти через него в сношения с самим Кошутом; но обдумав, отказался от сей мысли, отказался от нее по следующим причинам. Мне было известно, именно через моего Друга Рейхеля, что вследствие клеветливой корреспонденции в «Rheinische Zeitung» («[Новая] Рейнская Газета»), французские демократы также усумнились во мне. Когда было напечатано мое «Воззвание к славянам», я послал один экземпляр Флокону и приложил длинное письмо.
В этом письме я ему изложил сообразно моим тогдашним понятиям положение Германии и положение славянского вопроса; извещал его о моем уразумении и полном согласии с центральным обществом немецких демократов, о готовившейся второй революции в Германии и о моих намерениях касательно славян и Вогемии в особенности; уговаривал его прислать в Лейпциг, куда собирался ехать, поверенного французского демократа для приведения в связь предполагаемого германо-славянского движения с французским; наконец упрекал его в том, что он мог поверить клеветливым слухам, и кончал письмо торжественным объявлением, что как единственный русский в лагере европейских демократов я должен хранить свою честь строже, чем всякий другой, и что если он мне теперь не будет отвечать и не докажет положительным действием, что он безусловно верит в мою честность, я почту себя обязанным прервать с ним все отношения.
Флокон мне не ответил и никого не прислал, а вероятно для того, чтобы показать мне свою симпатию, перепечатал все «Воззвание» мое в своем журнале; то же самое сделали и поляки в своем журнале «Demokrata Polski»; но я ни того ни другого в Лейпциге не читал, принял же молчание Флокона за оскорбительный знак недоверия, а потому и не мог решиться даже и для цели, которую считал священною, искать с ним, равно как и с его партиею, нового сближения, не говоря уже о польских демократах, которые были если и не первыми изобретателями, то без сомнения главными распространителями моего незаслуженного бесчестия.
При таковых отношениях с французами и поляками я не обещал себе также и большой пользы от знакомства с графом Телеки, зная, что он находился в тесной дружбе с польскою эмиграциею. Таким образом, раздумав, я убедился, что поездка в Париж будет только пустою тратою времени; время же было драгоценно, ибо до весны оставалось уже немного месяцев. Итак я должен был отказаться и на сей раз от всякой надежды на связи и на средства широкие, должен был удовольствоваться для всех издержек добровольною помощью бедных лейпцигских, а потом и дрезденских демократов, и не думаю, чтобы в продолжение всего времени от января до мая 1849-го года я издержал более 400, много 500 талеров. Вот какими денежными средствами я хотел поднять всю Богемию! Теперь же перейду к своим связям и действиям.
В заграничных показаниях своих я несколько раз объявлял, что я никаким образом не участвовал в приуготовительных действиях немецких демократов для революции в Германии вообще и Саксонии в особенности. И теперь должен по совести и сообразно с чистою истиною повторить то же самое. Я желал революции в Германии, желал ее всем сердцем; желал как демократ, желал и потому, что в моих предположениях она должна была быть знаком и как бы точкою отправления для революции богемской; но сам решительно никаким образом не способствовал к ее успеху, разве только тем, что ободрял и поощрял к ней словами всех знакомых мне немецких демократов, но не посещал ни их клубы, ни их совещания, не спрашивал ни о чем, афектировал равнодушие и не хотел даже и слышать о их приготовлениях, хотя и слышал многое почти поневоле; сам же был исключительно занят пропагандою в Богемии. От немцев я ожидал и требовал только двух вещей.
Во-первых, чтобы они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость.
Такая демонстрация мне казалась необходимою, необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимою наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий.
Я должен сказать, что Дестер и Гекзамер сдержали вполне данное ими мне слово, ибо в короткое время и единственно только их старанием почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционерное дело, обещая им союз и помощь против франкфуртских притязаний, равно как и против всех других немецких реакционерных партий.
Такая сильная, единодушная и совсем неожиданная демонстрация произвела и на других желаемое действие: не только польские демократы, но [и] французские демократы, французские демократические журналы и даже итальянские демократы в Риме заговорили также о славянах как о возможных и желанных союзниках. Славяне же с своей стороны, и именно чешские демократы, пораженные и обрадованные сею внезапною переменою, в свою очередь также стали выражать в чешских журналах свою симпатию к европейским и даже к немецким и мадьярским демократам. Таким образом первый шаг к сближению был сделан.
Но это было не все; надо было победить ненависть богемских немцев к чехам, не только смягчить их враждебные чувства, но уговорить их соединиться с чехами, на общее революционерное дело. Задача не легкая, ибо ненависть бывает всегда там сильнее и глубже, где она происходит между племенами, живущими близко и находящимися друг с другом в беспрестанном соприкосновении. К тому же ненависть между немцами и чехами в Богемии была ненависть свежая, основанная на животрепещущих воспоминаниях, разъяренная и растравленная неусыпными стараниями австрийского правительства.
Она пробудилась в первый раз в начале революции 1848-го года вследствие двух противоположных, друг друга уничтожавших направлений обеих национальностей. Чехи, составляющие две трети богемского народонаселения, хотели и с полным правом хотели, говорю я, чтобы Богемия была исключительно страною славянскою в совершенной независимости от Германии; а потому и не хотели посылать депутатов в Франкфуртское собрание. Немцы же напротив, основываясь на том, что Богемия всегда принадлежала к Германскому Союзу и с давних времен составляла интегральную часть древней Германской Империи, требовали ее окончательного соединения, слияния с вновь возрождавшеюся Германией. Чехи не хотели и слышать о венском министерстве; немцы кроме венских министров не хотели признавать никакой другой власти. Таким образом произошла распря жестокая, поджигаемая с одной стороны Инспруком, с другой же венским правительством; так что, когда в июне 1848-го года Прага восстала, немцы поднялись со всех сторон немецкой Богемии и ринулись вольными толпами (Freischaren) на помощь австрийским войскам. Впрочем генерал князь Виндишгрец принял их довольно холодно и, поблагодарив, отпустил их домой. С тех пор вражда между чехами и немцами никогда не переставала, и ее победить было нелегко. Гекзамер и Дестер были мне в этом отношении очень полезны, равно как и саксонские демократы: они несколько раз посылали от своего имени агентов в немецкую часть Богемии, на которую действовали постоянно и неусыпно также и посредством демократов, обитавших на всей саксонской границе, так что к маю уже множество немцев в Богемии были обращены в новую веру, и хотя я и не имел с ними непосредственных отношений, знаю однако, что многие готовы были соединиться с чехами для общей революции. Сим ограничились мои отношения с немецкими демократами, в их же собственные дела, повторяю еще раз, я не вмешивался. Теперь обращусь к чехам.