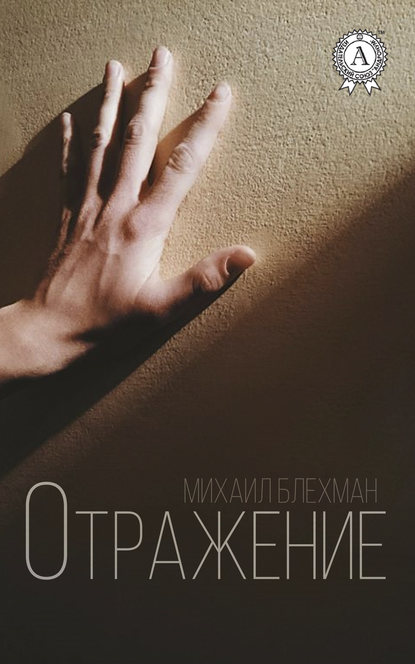По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отражение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вдруг будет девочка? – с почти незаметным сарказмом спросила – или сказала – Мария Исааковна.
– Мама, такие вещи вдруг не происходят, – успокаивающе ответила Клара, садясь изучать Римское право. Профессор Фукс читал свой предмет не хуже народного артиста, не говоря уже о римском трибуне. На его лекции собиралось столько студентов, что в бездонной аудитории яблоко скорее сгнило бы на своей ветке, чем посмело упасть, – и сдать Фуксу выпускной экзамен, тем более в таком положении, было ненамного проще, чем завоевать Римскую империю. Но Клара в себе не сомневалась, и Самуил тоже. И Владимир Фёдорович не сомневался, хотя, когда говорила Мария Исааковна, он больше молчал и иногда улыбался, но улыбался он не скептически, а согласно.
– Володя, чему ты улыбаешься? – голосом императрицы, временно сошедшей с престола, спросила Мария Исааковна. – Нет, он меня когда-нибудь сведёт с ума! Решается серьёзный вопрос, а он сидит себе как ни в чём не бывало и улыбается. Володя, сейчас же прекрати улыбаться! Я кому сказала?
– Так что ж мне, плакать? – искренне, улыбнулся Владимир Фёдорович и развёл руками.
Как же не улыбаться, если войны, слава Богу, нет уже целых шесть с половиной лет, квартира у них хоть и не изолированная, но не хибара какая-нибудь в эвакуации на Урале, все живы и здоровы, карточки отменили, Самуил заканчивает мединститут, Клара – юридический. У меня скоро будет внук, или внучка, особой разницы нет, но Клара уверена, что будет внук. Так что же – при этом всём плакать?
– Мама, – не отрываясь от написанного мягким почерком с наклоном влево конспекта, заметила Клара, – вопрос совсем даже не решается – потому что давным-давно решён. Я припоминаю приблизительную дату решения, и даже время суток, хотя точную, ввиду торжественности момента и важности задачи, назвать не рискую.
Несмотря на то, что она не уточнила, какой момент имеет в виду, реплика произвела впечатление. Полностью довольным остался только Самуил, располагавший всей совокупностью фактов, чтобы восхититься точностью формулировки, свойственной супруге. Владимир Фёдорович снова улыбнулся, а Мария Исааковна вспыхнула тихой молнией – в ответ на реплику Клары, улыбку Владимира Фёдоровича и довольную задумчивость Самуила.
III
До войны Клара жила вместе с Марией Исааковной и Владимиром Фёдоровичем в очень привилегированной трёхкомнатной квартире, естественно, изолированной, в самом, наверно, уютном районе Харькова – Нагорном, на Пушкинском въезде. Мария Исааковна работала инженером-строителем, руководила важнейшими проектами и спроектировала огромные электростанции – на Севане, на Балхаше, да что там, по всему Союзу.
Родилась Мария в Белоруссии, в еврейском местечке Речица, на Днепре.
Она была Мэри, а не Марией, но Мэри может быть только княжна, а какая княжна из Речицы? Её папа, Исаак, был лучшим краснодеревщиком во всей губернии, а мама, Клара, считалась неграмотной, и у неё было восьмеро детей. Грамоты она действительно не знала, но неграмотной не была, просто когда же выучишься, если муж с утра до вечера в мастерской, и восемь детей на руках?
Впрочем, знала она больше многих грамотных. К ней приходили за советом со всего местечка, как к Санчо Пансе на острове, и советы она всегда давала правильные – ни разу за всю жизнь плохо не посоветовала.
Из восьми детей было две девочки, Мэри и Хая, остальные – мальчики, они, когда выросли, стали социал-демократами и погибли – одни поэтому, другие позже, на войне, – не поэтому, а просто погибли.
Один из братьев оказался математиком. Он доказал недоказуемую теорему или, точнее сказать, в силу нелюбимого многими национального духа противоречия, опроверг аксиому. То есть это была не аксиома, потому что аксиому опровергнуть невозможно, но Арон не был согласен с тем, что это – аксиома, и потому опроверг её. Умеющая ценить незаурядное Петербургская императорская академия наук наградила его серебряной медалью, только Арону пришлось сменить ненаучное имя Арон на приемлемое Аркадий. А фамилия – Крупецкий – звучала почти как Оболенский или даже – если абстрагироваться от отягчающих частностей, – почти как какой-нибудь Голицынский.
Старшие в семье были постоянно заняты, так что Мэри научилась всему учиться самостоятельно. Когда Мэри была маленькой, она пошла на разлившийся за горизонт Днепр, который только неопытному или чересчур романтично настроенному наблюдателю может показаться чудным при тихой погоде. На самом-то деле даже у самого берега было полно ям и бурунов, не говоря уже о середине, едва видневшейся с высоты четырёхлетних глаз.
Но Мэри никто не научил тому, что должно быть страшно, да и вообще её никто ничему, кроме чтения и письма, не научил, а на речке это не пригодилось. И она вошла в воду так же, как в папину мастерскую разглядывать новый шкаф и праздничные стулья, или в мамину кухню – понюхать и попробовать кнедлах, латкес или фаршированную рыбу. Как можно утонуть, она тоже не знала, потому что не знала, что можно утонуть. Поэтому Мэри просто выплыла и поплыла, и ей это понравилось. Потом она – тоже сама – научилась переплывать Днепр, гулять по диковинному противоположному берегу, оказавшемуся вполне обычным, то есть таким же прекрасным, как и родной, и возвращаться домой к обеду.
Клара, как потом выяснилось, пошла по проторенному пути. Однажды, когда они гостили в Речице, она тоже решила сходить на Днепр, посмотреть, что там к чему, и искупаться. Ей было целых шесть лет, но она ещё не знала, что для того, чтобы плыть, нужно уметь плавать, – просто взяла и убежала на Днепр, тем более что до пляжа подать было даже её маленькой рукой. Никто и не заметил ничего – ну, вышел ребёнок за калитку, что тут такого, в Речице? Ни погромов уже, ни войны ещё и уже, ни даже заурядного грома с молнией. Клара бежала себе, радуясь жизни, как потом из школы домой, напевала «Смело мы в бой пойдём» и с разбегу влетела в воду, казавшуюся с берега безобидной, как свежий суп в старенькой, ещё бабушкиной, миске. Это было жутко смешно и весело, но дно вдруг провалилось в бездонную подводную яму и увлекло Клару за собой.
Несколько раз ей удалось вынырнуть, но каждый раз выныривалось всё труднее и хуже. В конце концов, сил выныривать не осталось, и она решила больше не стараться, всё равно ведь бесполезно. И тут я представила себе, как огорчится мама, когда узнает, что я утонула, и решила ради неё ещё раз вынырнуть, в самый последний раз.
В это самое мгновение её заметил моряк, молодой соседский парень, только что спустившийся к Днепру искупаться. Не раздеваясь, он сиганул в воду, вытащил мужественного ребёнка и отнёс Марии. Мама всё-таки расстроилась, но если бы я утонула, представляю, как бы она тогда огорчилась! Значит, всегда нужно пробовать вынырнуть ещё раз – а может, кто-то как раз будет проходить мимо и поможет.
IV
Мэри была прекрасна: с густыми, разумеется, тёмными, волосами, огромными глазами немного навыкате и чуть брезгливой улыбкой.
В шестнадцать лет Мэри вышла замуж за Зиновия Стольберга, очень энергичного, незаурядного и предприимчивого молодого человека, а через три года, в последний из 20-х годов, родила Клару и бросила мужа, потому что тот раздражал её своим мнением. Собственно, не мнением как таковым – она Зиновия не слушала, – а наличием у него того, что он имел смелость считать мнением.
Вообще-то Зиновий был Зиновием в той же степени, что Арон – Аркадием. Официально его звали Залманом, поэтому формально Клара была не Клариссой Зиновьевной, а Кларой Залмановной. Зиновий хотел, правда, назвать дочку Еленой, но наличие мнения сослужило ему не лучшую службу, да и вышло всё равно так, как считала верным Мария: мальчика нужно называть в честь дедушки, а девочку – в честь бабушки.
После развода, до войны, Зиновий иногда виделся с Кларой, и было это совсем для неё нечасто – так нечасто, что почти и не было…
В Харькове – первой украинской столице – Мария училась в строительном институте и была там лучшей студенткой: если в четыре года человек выплывет в Днепре, то в двадцать он тем более не утонет на суше, какой бы неровной эта суша ни была.
Спорить с нею было невозможно, точнее, бесполезно, потому что логика и форма аргументации у неё были даже не железные, а из какого-то ещё не изобретённого тугоплавкого металла, и студенты, в основном фронтовики, недавно переодевшиеся из будёновок в кепки, банально говорили, что у неё мужской ум. Но она была женщиной. С косой вокруг головы, с огромными глазами, и с умением переплыть через любую реку, как бы трудно ни было всяким хвалёным редким птицам долететь до середины.
Каждое утро Мария шла с Пушкинского въезда на Сумскую, улыбаясь порхающей золотистой махине Дома проектов, и ярко-серому небоскрёбу Госпрома, и строящемуся зданию Правительства на бескрайней, как вся её страна, и бесконечной, как вся её жизнь, площади Дзержинского. Жизнь только-только начиналась, и рядом ещё не было лучшего в мире памятника Тарасу Шевченко, и не было даже Зеркальной струи, которая – она ещё не знала – будет похожа на её шифоновый шарфик. Каблуки послушно стучали по послушной брусчатке и робкому асфальту, в портфеле были выполненные – лучше, чем кем бы то ни было на всём потоке – домашние задания, в тубе – лучшие во всём институте чертежи. Бесконечная в своей величественности Сумская проплывала мимо неё и плыла дальше, вниз, мимо царских зданий, дома Саламандры, громадного банка, Пушкинского скверика, нарядного украинского театра, впадала в Николаевскую площадь, на которой Марии подмигивали своими сияющими окнами здания, спроектированные ещё до Революции великим академиком Бекетовым, а ещё дальше возвышалось спокойно-серое, без глупых излишеств, здание, построенное совсем недавно, в 1925 году.
По выходным Мария сворачивала с Николаевской площади на горделивую Пушкинскую, гуляла там, где ещё не было и, казалось, не могло быть рельсов и трамваев. Она шла мимо церквей, делающих Пушкинскую похожей на купчиху первой гильдии. Мимо зданий архитектора Бекетова, напоминающих новогоднюю гирлянду или октябрьский фейерверк и поднимающих Пушкинскую до вполне заслуженного ею уровня столбовой дворянки. Она шла на свой, невозможный без неё, Пушкинский въезд – готовиться к лекциям, читать, чертить, считать на логарифмической линейке.
И, выйдя с Кларой на балкон, смотреть туда, откуда главным счастьем свалилась на них бесконечная жизнь.
V
В Марию влюблялись массово и наповал, но ей это было не слишком интересно, потому что каждый влюбившийся имел неосторожность или наглость иметь хотя бы в чём-то собственное мнение – очевидно, утверждая тем самым свою мужскую сущность. Марии же с избытком хватало собственной сущности, женской. Она только Владимиру Петкевичу позволила выслушивать и принимать к сведению и неукоснительному исполнению её мнение, и это её интересовало в нём. Он был старше, но она так не думала. Да и что за разница – шесть лет?
Владимир родился в Варшаве, когда Польша была частью Российской империи. Он работал клерком: инспектировал мясокомбинаты и овощные базы, ведал отчётностью во Вторчермете, потом работал в Управлении Южной железной дороги, в мощном старом здании на огромной харьковской Привокзальной площади. Начальство восхищалось его надёжностью и пунктуальностью. Он всегда знал, где найти нужную из множества бумаг, потому что ничего никогда не искал: все документы, написанные мягким прямым почерком без малейшей помарки (Владимир Петкевич и помарки?), не искались, а находились в единственном – нужном – месте в нужное, да и вообще в любое, время.
В юности Владимир увлекался такими же юными, как он, балеринами, а в зрелости влюбился в Мэри, то есть, точнее сказать – Мэри он полюбил.
Она разрешила ему испытать к себе это чувство, только когда убедилась в том, что он не собирается ни в чём ей возражать. А он и не думал возражать – он любил Марию и Клару сильнее, чем люди обычно любят других людей.
Ещё он любил футбол, только не играть – играть он не умел и не любил, – а смотреть. Когда Владимиру было двадцать лет, сборная Харькова выиграла первенство страны, и он собственными глазами видел Привалова, Кротова, Норова, Казакова, братьев Фоминых.
– В 21-м году в Одессе, – с улыбкой рассказывал он Кларе, – Казаков попал в перекладину, и она рухнула на голову одесскому вратарю. Представляешь?
Мария даже не пожала плечами, только возмутилась, чему он учит ребёнка, а Кларе захотелось увидеть, как падает перекладина, и она увлеклась футболом. Владимир же Фёдорович, наоборот, к футболу немного охладел, потому что после Привалова так в футбол уже никто не играет.
Владимир не умел плавать и служил в армии на баркасе рулевым, ведь с его комплекцией грести бессмысленно, а рулевым – в самый раз, и кроме него никто бы толком не справился. Он сидел на носу, громко и чётко отсчитывая:
– Раз-два, раз-два!
Я отсчитывал, чтобы гребцы не сбились с темпа, и они гребли. Однажды, под Форосом, это недалеко от Севастополя, наш баркас попал в мёртвую зыбь. Знаешь, что такое мёртвая зыбь? Это когда на поверхности вода как стекло, а под ней – отчаянные буруны, как будто кто-то взбалтывает воду. Мёртвая зыбь, ну её к аллаху, лодку не перевернёт, но человек может уснуть. Я считал, считал, а потом как будто провалился куда-то, и если бы матросы не сбились с ритма и не обернулись, меня бы уже на свете не было. А они сбились, потому что я уснул и перестал считать. Только благодаря им и спасся – иначе уже не проснулся бы никогда.
Рассказ Кларе понравился: он был ещё страшнее, чем штанга, падающая на голову вратарю.
После окончания института Мария бывала дома реже, чем в командировках, поэтому воспитывал Клару Владимир Фёдорович. Точнее, он не мешал Кларе расти и воспитываться, охраняя этот процесс.
VI
В садике Клара была главной после воспитателей, хотя почему так получилось, она не знала и не задумывалась над этим. Просто все уважали её мнение – возможно, потому, что ни у кого, кроме Клары, своего мнения не было, только у воспитателей. Она руководила всеми играми – в квача, в жмурки, во что угодно, и никогда не была последней курицей, которая жмурится, а жмурилась только тогда, когда ей этого хотелось, а не когда ей это почему-то выпадало (чтобы Стольберг – и вдруг выпало?).
Дома тоже было хорошо, – даже больше, чем тоже. Клара прибегала домой из садика, потом из школы – как оказалось, привилегированной, на их привилегированный, как тоже оказалось, Пушкинский въезд, в их потрясающую квартиру, где поначалу, до появления Владимира Фёдоровича, было пустынно – райское изобилие продуктов, даже всякая икра, – но не было мамы. Мама была в командировке – в Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, на Байкале, в Крыму, на озере Балхаш, на урановых рудниках. Мария Исааковна летала с места на место в небольшом, особом самолёте. Она была инженером-конструктом высшего класса, но конфликтов с теми, кто присылал за ней самолёт, у неё ни разу не возникло: я никогда не позволяла себе лишнего и никому ничего не рассказывала, в том числе об урановых рудниках.
Дома у Клары были бесконечные, но совсем даже не нелюбимые домашние задания, и ещё марки и монеты, и белый рояль. И ещё сотни или тысячи книг, которые легче перечитать, чем пересчитать. Читать Клара научилась так же, как Мария – плавать, и почти одновременно с нею, только не в четыре года, а в три. Поэтому дома всё равно было интереснее, чем на улице. Везде, кроме дома, она чувствовала, как ей не хватает родителей, а дома она этого почти не чувствовала, дома было ощущение восемнадцатого века, в котором не довелось родиться, белый рояль, марки с неприступной Викторией и с Георгами, не похожими ни на Викторию, ни друг на друга, серебряные петровские и николаевские рубли.
Потом появился Владимир Фёдорович, и стало лучше. Он улыбался, всегда поддерживал, никогда не раздражался и тем более не злился (Владимир Фёдорович и раздражение?) и в чём мог помогал, в том числе – собирать монеты и в особенности марки, хотя увлечения всеми этими бесполезными королями и королевами я никогда не понимал, наши марки гораздо полезней и интересней. Ну, да какой с ребёнка спрос.
Он водил Клару в Сад Шевченко, во Дворец пионеров на ёлку и на все возможные праздники. Во Дворце пионеров её однажды сфотографировали с подарком, она сидела на коленях у самого Постышева, и Мария Исааковна очень гордилась этой фотографией. А Владимир Фёдорович просто улыбался, ничего не говоря, но думая про себя, что ещё неизвестно, кому следовало гордиться, и снова водил Клару повсюду – в прекрасный парк Горького и бескрайний Лесопарк, по теряющей с каждым годом старую закалку Пушкинской, по звякающей трамвайными звонками и стучащей на рельсовых стыках Бассейной, по задумчивой Чернышевской.
VII
Роза была родом из местечка под Мариуполем, его – Мариуполь – потом переименовали в Жданов. А Семён был из Латвии, из Либавы, и Самуил знал несколько фраз по-латышски. На либавском рынке всегда отвечали, если обратишься на идиш и тем более на латвийском, и идиш очень даже уважали. А если на русском – могли не ответить.