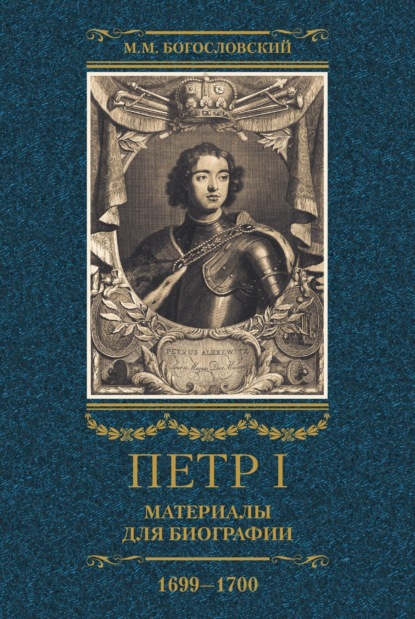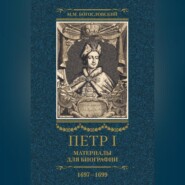По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петр I. Материалы для биографии. Том 3. 1699–1700.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Счастливое прибытие было отпраздновано пиром у боярина А.С. Шеина, на котором «гораздо веселились», как Петр писал в Москву Адаму Вейде 28 мая. В ответе Вейде сообщает царю, что и в Москве прибытие его в Азов было празднуемо «с нарочитою компанией», собравшейся у него, Вейде: «Ваше здравие по часту пили, на добрый ваш приезд в Азов гораздо веселились. Старый дохтур Блументрост нас не выдавал и против Ивашка Хмельницкого нарочито стоять способствовал, только же не пособила: Ивашка Хмельницкой с Бахусовою пехотою частою и скорою стрельбою так сильно приступал, что принуждены были силу свою потерять и от того с полуночи по домам бежать»[106 - Письмо к Вейде не сохранилось; о нем узнаем из ответа Вейде от 15 июня, полученного царем 1 июля (П. и Б. Т. I. С. 770–771).]. В тот же день, 28 мая, царь писал к Виниусу: «Min Her Vinius. Мы, слава Богу, приплыли сюды в добром здоровьи. Зело требую от вас заморских вестей, а наипаче о французском деле. Piter. Из Азова, мая в 28 день 1699»[107 - П. и Б. Т. I. № 270.]. Письмо показывает, что во время путешествия в Азов внимание Петра устремлено было на западноевропейские отношения, и в особенности на предстоящий вопрос об испанском наследстве.
На всех судах, собравшихся под Азовом, кипела усиленная работа по вооружению их и снаряжению: в самый же день приезда Петр отдал азовскому воеводе князю А.П. Прозоровскому указ отпускать командирам судов все необходимые припасы, как то: порох пушечный и ружейный, свинец, железо, смолу, пеньку, канаты, бечеву и всякие железные и лесные припасы, какие хранились в Азове в казенных амбарах, для скорости без соблюдения необходимых при таких выдачах формальностей и даже без расписок[108 - Елагин. Ук. соч., приложение IV, № 21, г – з.].
X. Плавание из Азова в Таганрог. Осмотр укреплений
3 июня в субботу предпринято было плавание из Азова в Таганрог с легкими судами, как пишет Крюйс: «Изволил его величество возыметь забавной поход от Азова к Таганрогу на Палюс Меотис (Азовское море) с 44 бригантинами, галиотами, яхтами и прочее». Поднявшийся сильный ветер несколько рассеял эту легкую эскадру и принудил ее стать на якоря; но к вечеру ветер стал стихать, эскадра двинулась в дальнейший путь и в воскресенье 4 июня бросила якорь у Таганрога при пушечных салютах с возведенных здесь батарей. В Таганроге строилась крепость во имя Св. Троицы и военная гавань. Своим видом Таганрог напомнил Крюйсу английскую гавань Дувр, а самое море между Таганрогом и Кубанским берегом показалось ему похожим на пролив Па-де-Кале. «Сие место оказует-ся так, – пишет он в журнале, – как Дуверен на канале английском и немного разности в дистанции. Между Кубанским берегом и Таганрогом сходно так, как между Калесом и Дувереном». И эти места поразили его своим плодородием и рыбным богатством: «Округ оного земля преизрядная и так многорыбно, как какое место в свете быть может от разных родов рыбы»[109 - Описание крепости и гавани Таганрога, данное Устряловым (История… Т. III. С. 277), по которому «крепостные стены не были еще возведены, но берег унизан был грозными батареями, под прикрытием которых флот мог стоять безопасно у Таганрога, защищаемый от ярости ветра искусственными молами», основательно опровергается Елагиным, который пишет: «Не беремся определить степени грозности батарей через 8 месяцев со дня решения их постройки; о существовании же в 1699 г. молов, которые «могли бы защитить флот от ярости ветра», не только не нашлось никаких сведений, но, напротив, известно, что погрузка в воду ящиков, долженствовавшая служить основанием молов гавани, началась только летом 1700 г.». Строил гавань не инженер Боргсдорф, а капитан Матвей Симонт (Елагин. Ук. соч., примечание 53).].
5 июня Петр с небольшой флотилией, как выражается Крюйс, «со флотиком», плавал к крепости Павловской, сооруженной тем же инженером Лавалем, который строил и Азов; но, рассмотрев произведенные Лавалем работы в Павловске, «рассудил оную работу, такоже и место, за негодно и неспособно, как то действительно и было негодно к службе как сухим путем, так и водою». 6 июня во вторник, подняв ранним утром якоря, из Павловска, минуя Таганрог, направились к Азову, куда и вернулись к вечеру со всеми, принимавшими участие в плавании под Таганрог легкими судами[110 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 377–378).].
Пришлось более двух недель ждать благоприятного западного ветра, который, подняв воду в устьях Дона, позволил бы провести стоявшие в этих устьях большие корабли в открытое море, что случилось только 23 июня. О деятельности Петра за эти 17 дней в Азове у нас почти нет никаких сведений. Знаем, что он вел переписку с друзьями: 13 июня писал Виниусу в Москву и одному из ближайших друзей, ездившему в Великом посольстве волонтером его десятка, Анике Щербакову[111 - П. и Б. Т. I. № 271. С. 773–776.].
14 июня под Азовом разразилась сильная гроза между четырьмя и пятью часами пополудни. Недалеко от царского двора убило молнией двух русских матросов. Крюйс заносит в журнал, как очевидец, что наружный вид этих убитых ни в чем не изменился, только на голове были сожжены волосы дочиста, как будто их совсем не бывало. Царь, со времени заграничной поездки большой любитель анатомии, не довольствовался внешним осмотром и приказал вскрыть трупы, «но в средине и внутри, – пишет Крюйс, – ничего не нашли, кроме великого смрада, так что подлиннее осматривать не могли»[112 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 378).].
Мы должны здесь припомнить, что в конце мая и в июне производился в Азове розыск по делу азовского старца Дия, для чего сам Дий и другие замешанные в этом деле лица были из Москвы доставлены в Азов, где находился князь Ф.Ю. Ромодановский. В деле нет указаний на личное участие Петра в розыске; но, конечно, и это дело не могло не войти в круг его внимания, раз оно шло в такой близости от него и раз его вел такой близкий к царю человек, как князь Ф.Ю. Ромодановский[113 - См. т. III настоящего издания, с. 196–219.].
Наконец, подул желанный западный ветер, и 23 июня были проведены через Кутюрминское гирло два первых больших корабля: «Апостол Петр», на котором находился царь, и «Благое начало», на котором находился вице-адмирал Крюйс. «И то были первые два корабля воинские, – пишет Крюйс, – которые из России по Дону в море вышли». За ними проведены были и остальные корабли. Проводкой распоряжался лично сам Петр. «Его величество, – свидетельствует Крюйс, – ездил неутружденно с корабля на корабль почитай по вся дни и распоряжал сам о способности к переведению всех кораблей чрез Кутермские мели». Еще в январе 1699 г. из Москвы из Пушкарского приказа предписывалось азовским воеводам приказать инженерам барону фон Боргсдорфу и капитану Матвею Симонту произвести работы по обозначению в Кутюрминском устье фарватера до морской глубины и для этого набить сваи, свая от сваи на расстоянии 50 саженей, и составить чертеж этого пути. Работа эта была ими исполнена и чертеж отослан в Пушкарский приказ в конце апреля[114 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 378–379); Елагин. Ук. соч., приложение VI, № 31.]. Будучи выведены в море, корабли отправились в Таганрогскую гавань.
Так как в дни, когда происходила проводка кораблей, Петр находился, по свидетельству Крюйса, на корабле «Апостол Петр», то особый интерес приобретает составленная весной 1699 г. опись этого корабля, в особенности опись верхней каюты, дающая представление об окружавшей царя на этом корабле обстановке. В каюте по описи обозначено: «Образ Пресвятые Богородицы Смоленские, венец и оклад серебряные и позолочены, в киоте жестяном за слюдою», стол дубовый складной, компас, 5 часов песочных, колокольчик медный маленький, роспись артикульная корабельная в рамках, 2 фонаря фитильных, фонарь большой слюдяной, на нем чехол суконный, скляница немецкая широкая и довольно большое количество всякой посуды, а именно: «9 чашек фарфоровых больших и малых, в том числе 3 желтых, 3 белых, 3 малых с лица лимонные, а внутри белые с лазоревыми травки; 6 чашек китайских белых с травами, 2 чашки зеленые фарфоровые ж, кувшин оловянной с покрышкою и с подножками, в чем чай греют, кувшинец глиняной, во что гретой чай льют, у кровельки оправа и цепочка серебряные и позолочены. Хрустальной посуды: 7 кубков, в том числе один с крышкою, 2 кувшинца, в том числе один с крышкою, 2 рюмки, 2 стакана, в том числе один с ручкою, 5 стаканов, доска чайная (поднос), кругом рамка резная, местами позолочена, в середине репей (розетка), в кругу написано золотом сусальным, выкрашена вся». Но тут же, в этой же каюте – разные предметы корабельного и военного снаряжения: «5 флагов, 4 вымпела, 7 флюгеров… 20 копейных значков, писаны по камке золотом и серебром, в том числе 10 на лазоревой камке написаны ангелы, 10 на белой камке написаны орлы», 6 сабель немецких, 20 затравок медных, 8 затравок железных, 8 пилок турецких, молоток[115 - Елагин. Ук. соч., приложение I, № 62.].
25 июня в воскресенье Крюйс отмечает появление посольства от крымского хана. Предписано было всем флаг- и штаб-офицерам собраться в 9-м часу утра на галеру адмирала, на которую час спустя явилось татарское посольство. Принимал посольство адмирал Ф.А. Головин. Возможно допустить, что это была какая-либо экстраординарная миссия, посланная для приветствия Петра по случаю нахождения его поблизости от пределов владений хана, а может быть, также по случаю недавнего заключения перемирия, главным же образом с целью разведки. «Были они одеты, – описывает посольство Крюйс, – по-казацки или на польскую стать. Глаза их были так быстры, якобы морской собаки; бороду имели двойную и островатую с немногими волосами, как индейские козлы. И побыв с полчаса, поехали сии шпионы назад в таком же порядке, как и приехали»[116 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 379).].
Эта миссия никакого следа в дипломатических документах Посольского приказа не оставила.
XI. Пребывание в Азове. Приготовления к отправке посольства в Константинополь
27 июня прибыл в Азов Е.И. Украинцев со всем составом отправляемого в Константинополь посольства. Дождавшись в Воронеже своего товарища, дьяка Ивана Чередеева, пожалованного при назначении посольства в дьяки из подьячих Малороссийского приказа[117 - Дворцовые разряды. Т. IV. С. 1100.], с остальной частью посольского состава, Украинцев двинулся оттуда к Азову на пяти бударах 1 июня. 26 июня он подошел к Черкасску, возвещая о своем приходе залпом из ружей сопровождавшего посольство отряда из 30 солдат, на что из города отвечали пушечным салютом. Состоялся обмен визитами с атаманом Донского войска и старшиной. «А как посланники пришли к берегу к пристани городовой, – читаем в «Статейном списке» посольства, – и тогда по берегу и по городу стояли многие донские атаманы и казаки и смотрели на приезд их, посланничей, и встретили их, посланников, у будар войсковые есаулы. А войсковой атаман Фрол Минаев с старшиною в то время был у обедни. И посланники, сошед с будар, были в соборной церкви. А как в церковь вошли, и тогда пели кенаник. А после обедни были они, посланники, по призыву у войскового атамана у Фрола Минаева, а потом он, Фрол, с атаманы и с старшиною был у него, чрезвычайного посланника, на бударе». 27 июня Украинцев поплыл к Азову, куда и прибыл в тот же день после полудня и остановился на тех же бударах под Алексеевским раскатом[118 - Арх. Мин. ин. дел. Книга турецкого двора, № 27, л. 9—9а.]. 28 июня он получил из Москвы от цесарского посла Гвариента письмо, в котором тот передавал ему присланные из Вены известия с жалобами на поведение московского посла на Карловицком конгрессе – Возницына. «Господин Прокопий, – как говорилось в этих сообщениях, – заключил свое перемирие с турками ранее союзников, действуя в полной тайне от них и от посредников. Цесарские министры были всегда отягчены его недоверчивым отношением, их сердечному и верному увещанию он не внимал, но всегда своей упорной голове следовал, а союзников за мало и даже ни за что почитал». Несмотря на то, ему по возвращении в Вену был оказан такой же прием, как и другим послам, «и не токмо от двора чествован был, но и ему и другим двум здесь бывшим послам и со всеми при них будущими людьми дворовые подарки серебром отосланы суть». При цесарском дворе питали большую антипатию к Возницыну за его неуступчивость и слишком самостоятельное поведение на Карловицком конгрессе и обвиняли его в том, что он действует вопреки интересам союзников. Эти чувства передались из Вены цесарскому посольству в Москву; они же ясно выступают и в дневнике Корба: каждое свое упоминание о Возницыне он сопровождает самым злобным выпадом по его адресу. Так, например, под 17 апреля Корб записывает в дневнике: «По почте пришло известие, что полномочный посол Прокопий Возницын уехал из Вены; ложно свалил на цесарских полномочных ошибку двухгодичного перемирия, но от старательных разъяснений цесарского посла выяснилось противоположное, так что неверный доносчик подвергся сильной опасности царского гнева…»
Под 4 мая по поводу назначения Украинцева посланником в Константинополь Корб записывает: «Один московит высказал такое суждение насчет настоящего посольства думного для заключения мира, чего по своей гордости и неразумению не успел выполнить Прокопий Возницын: «Мне это представляется так, что если бы дурак разбил стекло, а человека поумнее заставили чинить его». Под 28 мая по поводу полученного в Москве известия о болезни Возницына на пути из Вены в Москву читаем: «Пришло письмо с сомнительным известием, будто царский посол Прокопий, недавно отпущенный цесарским двором с полным почетом, или умер на пути, или опасно больной лежит в Кенигсберге: «у худой травы плод всего хуже»[119 - Корб. Дневник. С. 146, 148, 153.]. При таком отношении к Возницыну со стороны цесарцев понятна посылка приведенного выше письма к Украинцеву. Можем предполагать, что письмо было доведено до сведения Петра, в особенности при том взаимном недоброжелательстве, которое существовало между Украинцевым и Возницыным; однако из дальнейшего незаметно, чтобы оно уменьшило расположение к последнему царя. Письмо это было получено Украинцевым, в Азове в тот самый день, 28 июня, в который сам Прокофий Богданович выехал из Москвы, направляясь в Азов[120 - Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 4, л. 153–155.].
В течение июля шли при самом деятельном участии Петра приготовления к отправке посольства в Константинополь. Приготовления эти были двоякого рода. Во-первых, окончательно снаряжались к морскому плаванию корабли, как тот, на котором Украинцев должен был ехать, так и те, которые должны были его сопровождать до Керчи. 3 июля, по свидетельству Крюйса, объявлен был указ, чтобы суда, назначенные к плаванию, были совсем готовы к 15 июля. Оживление, с которым производились эти работы, напомнило Крюйсу работы на амстердамской верфи. Петр принимал в них участие в качестве простого корабельного плотника. «С кильгалеванием, конопачением и мазаньем кораблей, – пишет Крюйс, – так скоро и поспешно поступали, как бы на адмиралтейской верфи в Амстердаме. Его величество присутствовали притом в сей работе неусыпно так с топором, диселем, калфатом, молотом и мазаньем кораблей и гораздо прилежнее и больше работая, нежели старой и весьма обученной плотник»[121 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 380).].
Вместе с тем, и в этом заключался второй род подготовительной деятельности к отправке посольства, составлялись необходимые для него бумаги: грамоты и наказы. 15 июля приехал в Азов возвратившийся из-за границы П.Б. Возницын; 17-го, вероятно, в Таганроге он представлялся царю, «видел, – как он пишет в своем «Статейном списке», – великого государя пресветлые очи и был у руки», сделав, надо полагать, устный доклад царю о своей деятельности на Карловицком конгрессе. Как человек, более, чем кто-либо другой, находившийся в курсе русско-турецких переговоров, притом близкий к Ф.А. Головину, с которым сошелся во время путешествия Великого посольства, Возницын был тотчас же привлечен к работе над составлением дипломатических документов. 16 июля двинулся в Таганрог Украинцев с составом посольства. «Июля в 16 день, – читаем в его «Статейном списке», – по указу великого государя… присланы к посланникам в Азов из-под Тагана Рога с капитаном с Андреем Гесениусом в чем им ехать от Азова Доном и морем к Тагану Рогу две морские каги. И посланники на тех кагах отпустили от Азова к Тагану Рогу Донским и Кутюрминским устьем великого государя казну, и переводчиков, и подьячих, и толмачей, а сами они, посланники, с дворяны от Азова ж к Тагану Рогу пошли Каланчинским устьем на бударех того ж числа для того, что всем на те две каги вместиться было невозможно. И шли посланники на бударех тем донским Каланчинским устьем и Азовским морем к Тагану Рогу подле берегов. А к Тагану Рогу пришли июля в 18 день»[122 - Арх. Мин. ин. дел. Книга турецкого двора, № 27, л. 10.]. Здесь, в Таганроге, в двадцатых числах июля и вырабатывались дипломатические бумаги посольства: грамоты и наказы. Работу вели три лица: Украинцев, Возницын и в значительной мере сам руководитель иностранных сношений Ф.А. Головин, которого от этого серьезного дипломатического дела не отвлекали, по-видимому, его «потешные» обязанности адмирала. Но в выработке бумаг принимал также близкое участие и сам Петр.
Посольству вручались грамоты: «верющая и полномочная», «проезжая» и затем грамоты к султану и к великому визирю. Тексты грамот, составленные в посольской канцелярии, передавались Ф.А. Головину, который вносил в них собственноручные поправки, и затем уже эти тексты переписывались на листах александрийской бумаги с разными украшениями и к ним приложены были печати[123 - Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 4, л. 78–87.]. Наказов было вручено Украинцеву два: один открытый, официальный, содержащий наставления, как посланникам держать себя при разных церемониях, и тексты речей, которые им при этих церемониях надлежало произносить; другой тайный, содержавший наставления по существу тех переговоров, которые посольство должно было вести. Само собой разумеется, что в последнем и заключался главный предмет работы упомянутых дипломатов.
Сохранились документы, позволяющие составить представление о процессе самой работы. Именно в бумагах посольства находим два предварительных доклада, в которых отдельными статьями излагались вопросы, касавшиеся предметов посольства и предусматривавшие различные возможности и обороты в ходе будущих переговоров. Один из этих докладов[124 - Там же, л. 152.] идет от лица Украинцева, который и говорит о себе в первом лице; он содержит вопросы, касающиеся некоторых внешних сторон посольства, каковы: отношение посланника к капитану корабля, подчинение посланнику отряда сопровождавших посольство солдат, средства содержания посольства и экипажа корабля, одежды солдат, отпуска корабля весной, если посольство затянется. Вопросные пункты в другом докладе[125 - Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 4, л. 135–149.] в числе 37 касаются будущих переговоров и собственно дипломатических действий посольства в Константинополе. В этих вопросных пунктах второго доклада об Украинцеве говорится в третьем лице; они касаются уже внутреннего существа деятельности посольства. В их разработке можно предполагать вместе с Украинцевым также и участие Возницына. Тот и другой доклады шли к Ф.А. Головину. Головин под этими вопросными пунктами собственноручно подписывал резолюции с ответами на вопросы и с руководящими указаниями. Приведем несколько примеров таких вопросных пунктов с резолюциями из того и из другого доклада. В первом докладе Украинцев спрашивает: 1) «Капитан на корабле будет ли мне послушен?» Рукою Головина подписано: «Велено быть послушну и о том сказано». 2) «Солдат ведать тому ль капитану или мне?» Рукою Головина: «Капитану делать с его ведома и о всем его докладывать велено» и т. д. Во втором докладе: 1) «Спросит визирь: для чего он, посланник, к султану прислан?» Рукою Головина: «Объявить дела, как написано в наказе». 2) «Буде учнет (визирь) выговаривать, для чего царское величество с салтаном мир нарушил, который учинили в Крыму посланники (Тяпкин и Зотов в 1680 г.), и шертную (клятвенную) салтанову грамоту, какова дана в Цареграде Прокофью Возницыну (в 1681 г. при ратификации договора 1680 г.), и войну всчали, и городы Азов и Казыкермень с иными городками взял в те годы, когда салтан тройную на себя войну имел (т. е. с цесарем, Венецией и Польшей) и хану по договору на многие годы годовой дачи не велел давать»? Рукою Головина подписано: «Выговаривать неправды велено и для чего всчал войну за миром сам хан и за многие неправды татарские и мало ль хто прежде сего что делал, а ныне не делают», т. е. отвечать перечислением «неправд», учиненных со стороны Турции и татар, предъявлением вопроса, зачем сам хан начал войну, и указанием на то, что прежние платежи дани ханам не должны быть принимаемы в соображение в настоящее время.
Но Головин давал эти резолюции на вопросные пункты докладов, несомненно, со слов самого Петра, которому он эти вопросные пункты докладывал и, может быть, помогал формулировать ответы. Что резолюции написаны им со слов Петра, на это можно видеть указание в таких относящихся к Петру выражениях, как: «приказано», «велено», «сказать велено» и т. д. («велено» или «приказано», конечно, самим Петром). Например, во втором докладе, статья 15: «Салтан турской всех окрестных государств послом и посланником всегда для объявления дел приказывает прежде быть у визиря. А потом в иное время бывают на приезде у него, салтана, и грамот у послов и у посланников сам он не принимает, а вырывают из рук предстоящие пред ним и отдают визирю, и визирь кладет перед самого салтана и к целованию руки своей послов и посланников не допускает. И ныне о делех визирю наперед бытия салтанского объявлять ли?» Приведен и прецедент: «А Прокофья Возницына за то, что он о делех прежде салтанского бытия не хотел визирю объявить, хотели выслать ни с чем». Рукою Головина подписано: «Об том приказано делать, что пристойно, и дело чтоб было только делано». «Приказано», разумеется, Петром, и дух резолюции указывает на ее настоящего автора: пренебрежение к внешним условностям и церемониям, приказ делать как угодно, только чтобы сделать дело по существу. Статья 17: «Патриархом вселенским от великих государей наперед сего посыланы грамоты и милостыня собольми». Рукою Головина: «Велено написать и милостыню дать, если, надобно будет, и учинить по своему разсмотрению». Статья 18: «К салтану посылано (т. е. в прежнее время) в поминках собольми ж по 8000 и по 7000, а визирю по 3000 и по 2000, муфтию по 1000, и по 700, и по 600 рублев». Рукою Головина: «Сказать велено, что для того не послано, что еще о договорех ничего не сделано, а как учинится договор, и в то время на подтверждение присланы будут послы и с ними обыкновенно дары»[126 - См. также статьи 25, 26, 32.]. Под этими «велено написать» и «сказать велено» несомненно подразумевается приказание Петра; если бы приказание отдавал сам Головин, эти выражения были бы в резолюциях совершенно излишни и прямо невозможны; Головин писал бы прямо «сказать», «дать», «делать», слов «велено», «приказано» ему было бы употреблять незачем.
Получив от Головина свои вопросные пункты с царскими, записанными Головиным, резолюциями, Украинцев с Возницыным перерабатывали их в форму наказа, причем вопросы получали форму условных предложений, а резолюции – вид положительных предписаний и руководящих указаний, например статья 8:
«А буде визирь и ближние салтановы люди учнут выговаривать, для чего царское величество с салтановым величеством мир нарушил, который учинили в Крыму посланники, и шертную салтанову грамоту, какова дана в Цареграде Прокофью Возницыну, и войну всчал, и городы Азов и Казыкермен с иными городками взял в те годы, когда салтан тройную на себя цесарскую, веницейскую и польскую войну имел и хану по договору на многие годы годовой дачи не велел давать, и посланнику говорить, что тому прежнему миру нарушение учинено с стороны салтанова величества», и далее перечислены многие правонарушения со стороны турецкого султана и крымского хана и, таким образом, короткая резолюция, данная на эту статью, распространена здесь в целый трактат. Вот как, например, развита ее последняя часть, гласившая: «…и мало ль кто прежде сего что делал, а ныне не делает». В наказе эта мысль разработана в такое длинное рассуждение:
«А напред сего давано царского величества жалованье в те времена, когда Московское государство было не в такой силе и распространении. А ныне, когда, по милости Божией, государство его царского величества распространилось и в силах умножилось, и для того и война татарская стала быть не страшна. И к Перекопи, и к иным татарским юртам войска его царского величества розные пути познали (узнали) и за многие ханов крымских неправды великого государя жалованье им отставлено и впредь в даче не будет. Да и издавна всякие премены на свете быть обыкли, и таких много есть примеров, что одни народы в воинских своих делех прославляются, а другие ослабевают. И мочно то ближним доводом объявить (т. е. можно привести еще такое соображение), что с первых лет и салтановых величеств турских государство было не в такой силе и славе, как ныне есть, и бывали такие времена и случаи, что русские народы морем к Константинополю хаживали (это воспоминание, взятое из летописей, было, вероятно, сочтено очень подходящим к моменту, когда русское посольство готовилось отправиться в Константинополь морским путем) и годовую казну с греческих царей имывали, а после того то пременилось… Также и ханы крымские напред сего такие дачи себе имывали, а ныне им пришло время от того уняться и престать, и жить с христианскими государи в покое…» и т. д. Вопросный пункт доклада с резолюцией о предварительной аудиенции посланникам у визиря раньше представления их султану и о порядке передачи султану царских грамот получил в наказе такую обработку: «Салтан турской всех окрестных государств послом и посланником всегда для объявления дел приказывает прежде быть у визиря, а потом в иное время бывают на приезде у него, салтана, и грамот у послов и у посланников сам он не принимает, а вырывают из рук предстоящие пред ним и отдают визирю. И визирь кладет перед самого салтана и к целованию руки своей послов и посланников не допускает. Да и Прокофья Возницына, как он у салтана был во 189 г., за то, что он о делех прежде салтанского бытия не хотел визирю объявить, хотели выслать ни с чем. И посланнику домогаться, чтоб быть прежде у салтана, а потом у визиря. И буде салтан по его, посланничью, домоганию того не учинит, и посланнику против прежнего их обыкновения и чтоб тем в деле великого государя не учинить помешки быть прежде и у визиря и о делех великого государя ему объявить»[127 - Статья 20.]. Вопросный пункт о даче милостыни вселенским патриархом перешел в наказ в таком виде (статья 21): «Буде вселенские патриархи в бытность его, посланникову, будут в Царегороде и с своих сторон в делех его, государских, учнут ему вспоможение чинить и радеть, и о всяких тамошних поведениях ведомости присылать, и ему, посланнику, смотря по их трудам, дать им его, великого государя, жалованья на милостыню собольми и против прежних дач и по своему рассмотрению из тех соболей, которые с ним посланы с Москвы на раздачу от дел»[128 - Тайный наказ (Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 4, л. 53–77).].
Изготовленные, таким образом, в соответствии с данными резолюциями проекты наказов были представлены Головину, который подверг их пересмотру и исправлению, внося поправки собственной рукой. Эти собственноручные поправки, которыми пестрят черновые тексты наказов, свидетельствуют о том, как внимательно Головин их читал и какую большую работу он выполнил. Поправки касались как внутреннего содержания, так и внешней отделки, самого слога текстов, вносили добавления к проекту, иногда усиливали смысл той или другой статьи, иногда, наоборот, заменяли слишком категорические выражения более мягкими. Приведем несколько примеров такого исправления проекта наказа Головиным. Статья 1 наказа предписывает посланнику заключить с турками вечный мир. В статье 2 говорилось, что, если султан вследствие каких-либо затруднений вечного мира учинить не захочет, в таком случае «посланнику говорить о перемирье, как у него, салтана, постановлено с цесарем и с венеты на двадцать на пять лет или болши». К этому тексту Головин приписывает следующее дополнение: «и чтоб того болиш или менши» – открывает, таким образом, возможность заключения перемирия на больший или на меньший срок, чем 25 лет, «дабы в тех ровных с цесарем и с венеты како поставлено о перемирных летех в турках каковаго подозрения не было», т. е. чтоб в этом равенстве сроков перемирия турки не заподозрели какого-нибудь нового союза России с цесарем и с Венецией. Статья 3 говорила о сохранении за Россией Азова и завоеванных днепровских городков. «А завоеванные б городы Азов и Казыкермен и иные к ним принадлежащие городки по тому договору были в державе царского величества».
К этому тексту Головин прибавил усиливающее слово «непременно». В статье 4 говорилось об отмене ежегодной дачи крымскому хану: «А о годовой даче хану крымскому, что ему напредь сего от царского величества давано, буде визирь или ближние люди учнут говорить, и ему, посланнику, в том им отказать». Головин прибавил к этому: «А говорить по нижеписанной статье, как о той даче написано, выводя пространными разговоры». Эта «нижеписанная» статья есть статья 8 наказа, рассмотренная нами выше, подробно развитая из статьи 2 вопросных пунктов о том, чтобы на возможный со стороны турок вопрос: для чего царь с султаном мир нарушил и т. д., отвечать перечислением турецких и татарских «неправд», а о прекращении выдач крымскому хану отвечать указанием на всякие бывающие на свете перемены. И в эту статью в перечисление татарских неправд Головин внес усиливающее добавление. В тексте проекта в перечислении «неправд» стояло:
«а сверх того не по одиножды в Крыму царского величества гонцы и посланники были задерживаны»; Головин к этим словам еще прибавил: «…и биты, и мучены, и обесчещены многажды и выговаривать с посланничьих «Статейных списков», выбирая что пристойно, какое наругательство в Крыму послам и посланником царского величества бывало». В статье 5 о размене пленных Головин, наоборот, несколько смягчил твердость первоначального текста. В проекте говорилось: «О полоняничной розмене, буде визирь или ближние салтановы люди учнут говорить, посланнику сказать, что полоняником розмена будет в то время, как у великого государя, у его царского величества с салтановым величеством учинится вечной мир или на довольные лета перемирье. А буде вечной мир или перемирье не учинится, и тем полоняником розмены не будет». Здесь вместо категорических выражений будет и не будет Головин внес более мягкие: «мочно учинить» и во втором случае: «учинить невозможно». В той же 8-й статье о нарушении мира и прекращении выдач крымскому хану находим чисто стилистическую поправку, сделанную Головиным к первоначальному тексту, незначительную, но показывающую, как чутко было его ухо к официальному слогу. В тексте было написано: «…и хану по договору на многие годы годовой дачи не велел давать». Головин переставил слова: «давать не велел»; такое расположение слов более гармонировало с обычным тоном приказной речи.
Возможно, конечно, что и редактирование наказа производилось Головиным не без участия или, по крайней мере, не без ведома Петра, что текст наказа был Головиным Петру прочитан, но доказать этого положительно нельзя. После головинских изменений наказ был переписан, и это была уже его окончательная редакция. Работа над наказами производилась в промежуток времени между 21 и 31 июля. Первый из этих терминов упомянут уже на первой строке наказов, начинающихся словами: «Лета 7207 июля в 21 день великий государь… указал по именному своему великого государя указу, будучи у Мустафы салтана турского, чрезвычайному посланнику думному советнику[129 - Это был, следовательно, второй случай именования таким титулом думного дьяка на посольстве. Первый случай – пожалование этого звания П.Б. Возницыну.] и наместнику каргопольскому Емельяну Игнатьевичу Украинцеву и дьяку Ивану Чередееву чинить договор о вечном миру или о перемирье, или о съезде на комиссию со обеих сторон великих и полномочных послов по сему своему великого государя тайному наказу и по указным нижеписанным статьям». Дата окончания работ по редактированию наказов (31 июля) явствует из сделанных к наказам приписок: «Таков наказ написан на трех дестевых тетратях; закрепил его думной советник Прокофий Богданович июля в 31 день и отнесен к нему вместе с грамотами того ж числа». Эти отметки могут также служить доказательством участия П.Б. Возницына в составлении текста грамот и наказов[130 - Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 4, л. 78–82, 83–85, 86–87 (грамоты). Ср.: П. и Б. Т. I. № 275, 276; л. 152 – доклад Украинцева с вопросными пунктами; л. 135–149 – доклад с вопросными пунктами, послуживший основанием для наказов; л. 88—151 – официальный открытый наказ; л. 53–77 – тайный наказ. См. еще: Дела турецкие 1699 г., № 5. Здесь находятся копии с открытого и тайного наказов, сделанные в 1737 г. На заглавных листах отметки: «Концепт черного наказу имеется в столпцах черненья боярина Федора Алексеевича Головина».].
XII. Переписка Петра за летние месяцы 1699 г
Уцелевшие небольшие остатки переписки Петра за время пребывания его в Азове и Таганроге показывают, что он был занят не только приготовлением флота к выходу в море и составлением посольских наказов. Мысль его за это время охватывает чрезвычайно разнообразные предметы. С 28 мая в течение июня, июля и августа Петр писал в Москву к Виниусу, Вейде, Л.К. Нарышкину, Брюсу, генералу Гордону и получал от них письма. Можно отметить и почтовые дни, когда он отправлял свою корреспонденцию: 28 мая, 13 июня, в двадцатых числах июня, 5, 18 и 26 июля. Сохранились главным образом ответы упомянутых лиц; из писем же самого Петра уцелели всего лишь два письма к Виниусу[131 - П. и Б. Т. I. № 270–271.], так что судить о содержании его переписки мы можем только по ответам его корреспондентов. Постараемся, насколько возможно, располагая письма по корреспондентам, взглянуть на содержание переписки из Азова и Таганрога и составить себе представление о тех предметах, которые тогда занимали Петра в его сношениях с тем или другим лицом, не упуская из виду, что это только, может быть, незначительная часть переписки.
В переписке с Виниусом Петр касается главным образом двух вопросов: о заграничных вестях, о наборе мастеров для железных заводов. Сообщая 28 мая Виниусу о благополучном прибытии в Азов, Петр, как мы видели выше, «зело» требует от него заморских вестей, т. е. известий о положении дел в европейских государствах, «а наипаче о французском деле», т. е. об испанском наследстве[132 - Там же. № 270.]. К своему ответу от 15 июня из Москвы Виниус прилагает для Петра перечневую выписку (доклад о европейских делах). «А францужское, государь, дело, – пишет он далее, – ныне утихло, потому что гишпанской король паки повыздоровел, а надолго ль – впредь время явит». Московские иноземцы, с которыми он беседовал об этом предмете, говорят, что как только испанского короля не станет, «тогда наследие ево учнут доставать не без разлития человеческие крови цесарь и француз». В этом же письме Виниус повторяет царю просьбу об указе относительно каких-то хранимых им «гагаринских животов»; есть опасность, что они от сырости палат и от моли попортятся, и будет убытка на многие тысячи рублей. Вместе с письмом Виниус послал Петру в подарок «ящичек померанцев»[133 - П. и Б. Т. I. № 270. С. 770–771. (Письмо это получено Петром 1 июня.)].
В следующем письме к тому же корреспонденту от 13 июня Петр пишет о мастерах для железных заводов, о ствольных мастерах – крепостных людях, которых следует взять, вознаградив только их хозяев, о вышедших из моды стволах на колесах и о скорострельных пушках. «Min Неr, – читаем в этом письме, – 3 письма ваших на разных почтах я получил апреля 30, майя 7 и 21 чисел писанные, из которых в 1-м о мастерах железных заводов, что инде дают их, а инде не дают; и ты отпиши имянно, с которых заводов не дают. Ствольных мастеров крепостных вели взять, только хозяев наградить, чтоб обижены не были. А что стволы на колесах, и то самая старая мода и нигде не употребляется больши. А естъли зделать железные же кованые пушки в пол 2 фунта (т. е. 1? фунта) ядром и в 9 или в 10 калибров долиною, из которых готовыми кожеными патронами возможно на всякую минуту 10 раз выстрелить, а тягостью не будут тяжеле 10 стволов, а те пушки умеют делать на Туле и в иных местех». Далее он обещает прислать указ об интересующем Виниуса гагаринском имуществе: «…указ будет впредь, а естъли которые вещи могут испортитца и те вели продавать» – и заключает письмо собственноручной припиской, опять настаивающей на присылке известий о положении дела об испанском наследстве. «Есть ли къ теб? в?домость отъ бургамисътра Вiтцена а ?ъранцускомъ д?ле съ Гишьпаны? А намъ зело ну[жно в?]дать, i ты о том посторайся. Piter. Из Азова, iюня 13 den 1699»[134 - Там же. № 271.]. Виниус получил это письмо в Москве 28 июня. Ответ его от 29 июня начинается известиями о мастерах для железного завода: их нужно 8 или 10 человек, без такого числа пустить в ход завода нельзя, а достать ему удалось всего только двоих, причем сообщаются и подробности этого добывания мастеров: прислан хороший мастер с заводов Л.К. Нарышкина, только он стар и по-русски говорить не умеет; сын его, молотовой мастер, ехать не захотел, а старик сказал, что без сына ему ехать нельзя. Жена гостя Воронина с его заводов ответила, что у нее тот завод на откупу и мастера наемные, может быть, одного или двух даст. Вахромей[135 - Варфоломей, или В а х р о м е й, Меллер – владелец железных заводов, расположенных по реке Протве в Боровском уезде.] одного мастера дал, даст, вероятно, и другого и т. д. Эти сообщения интересны потому, что показывают, в какие мелкие детали и подробности способен был вникать Петр в каждом деле. От железных мастеров Виниус переходит к каким-то «легким пушечкам кованым», которые он велит сделать по данному Петром образцу: они очень пригодны будут против татар, ежегодно нападающих на сибирские слободы. Далее идет целый ряд разных сообщений и просьб: вчера из Москвы поехал в Азов Прокофий Возницын; он, отправляясь в Великое посольство за границу, взял из Сибирского приказа, которым управлял Вини-ус, соболей и камок на 12 000 рублей, надобно бы спросить с него отчет; он не возвратил также Виниусу писем его, писанных им к государю в Вену, и Виниус просит Петра велеть их отдать. Относительно решений по делам о злоупотреблениях сибирских воевод – все в воле государя; Виниус предлагает только кое-что у них отобрать – «им во очищение душевного греха, а иным будущим в страх, но во изволение твое государское не вступаю, да будет надо всем твой милостивой указ». Французское дело с испанцами ныне утихло, потому что испанский король повыздоровел, однако ж признают его слабым, поэтому французский король приготовился к войне, а цесарь с английским королем и с голландцами готовят союзы против Франции. Турки Каменца полякам еще не отдавали, что должны были сделать по Карловицкому договору, и будто бы сильно негодуют на визиря и на муфтия за уступку этого города полякам; будет ли отдача и правда ли то, что в курантах об этом пишут, покажет время. Припоминая, что день написания письма – 29 июня – «торжество первоверховных апостолов», Виниус заканчивает письмо поздравлением Петру и пожеланием многолетнего здравия и всякого благополучия[136 - П. и Б. Т. I. С. 771–773.].
В письмах от Адама Вейде много разных поздравлений Петру: с днем рождения, по случаю прибытия в Азов, по случаю удачной проводки кораблей в море. Вейде сообщает также о праздновании этих событий в компании друзей в Москве. Но главным предметом переписки с ним было порученное ему составление «Воинского наказа». Вейде не только извещает царя о ходе этой работы, но и пересылает изготовленные ее части на его рассмотрение и ждет исправлений, которые делает Петр, принимая, таким образом, самое деятельное участие и в этой законодательной работе. «Allergnadigste grotte Неr, – пишет Вейде 6 июля, – воинские правилы, конечно, в будущей почте до милости вашей пришлю». Задержка вышла из-за Брюса, также привлеченного к этой работе: он не успел изготовить порученных ему статей, посвящая много времени на выправление русского языка – больше, чем он ожидал; станет сколь возможно спешить. «Воинский наказ», пишет Вейде 13 июля, а также артикулы, в которых содержится уложение о наказаниях, изготовил по образцу подобных же уставов, принятых у других великих государей, и посылает Петру. Пусть Петр прикажет прочесть себе изготовленное подряд с начала до конца, тогда ясно будет видна последовательность; сделано, конечно, не без ошибок. «Изволите пожаловать с самова с начала все сряду велеть прочитать, то возможно будет видеть, что после чево последует и что милости вашей годно и негодно будет; только, чаю, не без погрешению быть для того, что не прочтена и с подлинною сличить не успел. Стану еще готовить, чтоб подлинно справно было». В письме от 20 июля он сообщает: «Воинские артикулы по прошлой почте до милости вашей послал; только еще одну (статью или главу?) с прилежанием выправлю»[137 - В 1698 г. Вейде, возвратясь из Вены, куда он был послан для ознакомления с военной организацией имперских войск, составил «Воинский устав», в котором определяются обязанности чинов русской армии, а также даны некоторые правила для строевого обучения. В 1699 г. ему было поручено составить «Воинский наказ, как содерживаться» и «Артикул, какое кому наказание за вины». См.: Бобровский. Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях.]. Но помимо главного предмета переписки в письмах Вейде передаются и разного рода другие известия. Елизарий Избрант поручил просить указа о заготовлении леса в Архангельске. От типографа Тессин-га из Амстердама прислан листок из какой-то печатаемой у него русской книги (по-видимому, титульный лист). Все издание в количестве 600 экземпляров будет прислано через Архангельск. В письме от 20 июля сообщается об увеличении числа недорослей, надо полагать вступивших на военную службу, и возбуждается вопрос об их обмундировке: «Недоросли почали прибавляться; а некоторые есть дело свое нарочито знают. Прошу милости, чтоб им такие ж перевязи дать, как у преображенских; а кафтаны зеленые мало не все сделали»[138 - Письма Вейде: П. и Б. Т. I. С. 769 – приписка к письму Анны Монс от 28 мая; с. 770–771 – от 15 июня, получено Петром 1 июля; с. 777 – от 6 июля; с. 777 – от 13 июля, получено Петром 30 июля; с. 778 – от 20 июля.].
Яков Брюс в письме от 29 июня вслед за поздравлением «со днем ангела» сообщает Петру о приезде в Москву француза инженера де Шампи с рекомендательным письмом от курфюрста Бранденбургского и с другими письмами, свидетельствующими о том, что он служил инженером во Франции и в Италии и строил во Франции «славную гавань Havre de Grace»; по разговорам с ним кажется человеком ученым и искусным. При письме Брюс пересылает царю какой-то сложный инструмент, очень пригодный для путешествующих, «как сыскать полус гогде (или элевацию поли), без всякого вычету и не ведая деклинации солнца и не имея инструментов, кроме циркуля и линиала». К инструменту он приложил чертеж и описание, как им пользоваться[139 - Устрялов. История… Т. III. С. 495–496.]. В другом сохранившемся письме его от 13 июля читаем: «Милостивейший государь! По твоему государскому писанию к Адаму Вейде послал я к тебе, государю, краткое описание законов (или правил) шкоцких, агленских и францужских о наследниках (или первых сынах). Також напоминая (т. е. вспоминая) твой государев приказ в Агленской земле, послал к тебе, государь, описание чинам, которые были у агленского короля у артиллерии на войне и во время миру, такожды о их жалованьи поденном в войне и о годовом во время мировое (т. е. мирное)»[140 - Там же. С. 497.]. Переданный Брюсу через Вейде приказ царя прислать ему выписки о праве наследства из законов английских, шотландских и французских показывает, что царя продолжает занимать мысль о переменах в русском наследственном праве в смысле наследования первых сыновей, которое его заинтересовало при наблюдении за английскими порядками. Эта записка Брюса будет положена впоследствии вместе с другими материалами в основу знаменитого закона о единонаследии 23 марта 1714 г. Присылка описания артиллерийских чинов в Англии показывает, что мысль Петра работает над планом устройства в России регулярной армии, которое и началось в том же 1699 г.
Л.К. Нарышкину Петр писал 5 июля из Азова и 26-го из Таганрога. В ответах на эти письма от 20 июля и от 17 августа Нарышкин уведомляет царя о здоровье членов его семьи: царевны Натальи Алексеевны и царевича. Во втором письме он оправдывается против упреков Петра в том, что не предупредил шведских послов, приехавших в Россию, о продолжительном отсутствии его из Москвы. Как припомним, перед своим отъездом в Воронеж Петр приказал уведомить назначенных в Московское государство шведских послов через шведского резидента Томаса Книппера, чтобы они приезжали в Москву до Масленицы, так как на Масленице он уедет в Воронеж[141 - См. т. III настоящего издания, с. 222.]. Шведское посольство тогда не явилось, а теперь, в двадцатых числах июля, приближалось уже к Москве. Петр упрекает Нарышкина в том, что посольству не было сообщено через Книппера об его отсутствии. «А что, мой асударь, – оправдывается Нарышкин, – изволил писать о свейских послех, что им не говорено, о чем Томосу Книперу указ твой был, и у меня то не забыто и все то им предлагал; в то же время при послех и Томос Книпер был, о чем изволишь по записи уведомитца». Нарышкин принял подъезжавшее к Москве шведское посольство в своей подмосковной усадьбе Чашниково и во время разговора с послами действительно выговаривал присутствовавшему при приеме резиденту Книпперу за непередачу сообщения. О разговоре с послами в Чашникове была составлена особая записка, которую он и переслал Петру[142 - Письма Л.К. Нарышкина: П. и Б. Т. I. С. 777–778 – от 20 июля; с. 780–781 – от 17 августа, получено было 5 сентября. Записка о приеме послов в Чашникове напечатана у Устрялова (История… Т. III. С. 525–526).].
Петр переписывался также с оставшимся в Москве генералом Гордоном. В письме от 28 июня Гордон сообщает царю о приезде в Москву на русскую службу из Польши одного своего родственника в чине корнета; едут из Киева еще два других родственника его, оба в чине капитанов, кажется, искусные люди; если царь согласен принять их на службу, пусть напишет. Гордон сообщает далее царю, надо полагать, очень печальное для последнего известие: 20 июня пропал без вести находившийся в Москве капитан Рипли, командир подаренной Петру английским королем яхты «The Transport Royal», которую он привел в Архангельск. «А чают, – пишет Гордон, – что сам себя изгубил, потому что долгое время вельми был меланколичны и смерть себе часто желал. А тело его ищут везде, только то се число нигде не найдут»[143 - Устрялов. История… Т. III. С. 495.].
В следующем письме от 6 июля Гордон уведомляет Петра, что 1 июля нашли тело Рипли в реке Яузе, пониже Лебяжьего двора в Преображенском. «А по осмотру голова избита назади, на правой руки знаки синие, пуговицы серебряные с кафтана обрезаны и карманы выворочены; однако неведомо, от себя пропал или от людей». В этом же письме Гордон сообщает Петру известие о следующем чрезвычайном происшествии: 29 июня во время «вечерен» дворовые люди князя Никиты Ивановича Репнина, а с ними и другие напали у Воскресенских ворот на караульных солдат и избили их, били также и находившегося с ними офицера и надругались над ним. Некоторые из виновных переловлены и приведены на Потешный двор; дьяк Преображенского приказа Яков Никонов ведет по этому делу розыск и по окончании пришлет его в Азов к князю Ф.Ю. Ромодановскому[144 - Устрялов. История… Т. III. С. 496.]. Это, вероятно, тот эпизод, о котором повествует Корб в своем дневнике под 30 июня (10 июля): «Князь Репнин… у которого под влиянием какого-то сильного душевного потрясения помутился рассудок, дерзко напал со своими слугами на городской караул. Когда князь намеревался схватить знамя, то знаменосец поступил очень похвально, именно – он ударил Репнина древком; очень много других лиц во взаимной борьбе получили раны»[145 - Корб. Дневник. С. 158.].
Петр писал Гордону из Таганрога 18 июля, уведомляя его о выходе кораблей в море. «Mijn Heer groote Commandeur, – отвечает ему Гордон от 27 июля, – письма от милости твоей июля в 18 день с Таганрогу с великою радостию я принел, а что караблей вышли и дела ваше морское в путь идет велми утешаюся. Подай Господь Бог, чтобы все твое намерение и дела к доброму завещанию пришли бы». Гордон передает царю затем благодарность от некоего морского поручика за принятие на службу и за повышение в чине – и, может быть, это был тот родственник его корнет, о котором он писал в предыдущем письме. Следуют сообщения последних московских новостей: вчерашний день состоялся въезд в Москву шведских послов, а затем произошел большой пожар: «В десятом часу в Белом городе… выгорел Пушечной двор и от Неглинны до Поганова пруда, от Миколы Столба вниз до Китаю; а Китай чуть не весь выгорел»[146 - Желябужский. Записки ([Сахаров]. Записки русских людей. С 64–65): «И того же числа (25 июля в день въезда шведских послов; Желябужский ошибается днем: въезд шведских послов происходил 26 июля) был пожар великой, загорелось наперед на Рождественке, а выгорело по Неглинную и по Яузу в Белом городе, и Китай весь выгорел, не осталось ни единого двора; также выгорели все ряды и лавки, и Сыскной приказ».]. Письмо заканчивается фразой на немецко-голландском языке: «Ick recomendire V. M. in die Shьtz des Almachtiges en verblyve V. M. ootmoedigste Dienaer P. Gordon. Slaboda, 27 Julij 1699». Голландское обращение и заключительная немецко-голландская фраза написаны Гордоном собственноручно; русский текст письма продиктован и сохраняет особенности русского произношения генерала[147 - П. и Б. Т. I. С. 780.].
Одновременно с письмом к Гордону 18 же июля Петр писал из Таганрога англичанину Андрею Стельсу в Архангельск, поручая ему выписать из Англии несколько корабельных мастеров, а именно: двух маштмакеров, двух блокмакеров, трех или четырех плотников – подмастерьев, с тем чтобы один из этих англичан умел говорить по-голландски. Стельс в ответе от 19 августа уведомляет, что тотчас написал об этом брату в Англию, но выражает опасение, что мастера уже не успеют приехать в Ругодив (Нарву) до весны, так как последние корабли из Лондона приходят в сентябре. Если бы приказание отдано было раньше, они, конечно, приехали бы на осенних кораблях. «Здесь (т. е. в Архангельске), – пишет он в заключение, – уже 10 карабли аглински были, из той число 3 пошли опять назад, да еще ожидаем 4 или 5 караблей»[148 - Там же. С. 779–780. (Письмо получено было Петром 29 сентября.)].
Итак, только что приведенные остатки переписки Петра за летние месяцы 1699 г. касались довольно разнообразных предметов. Здесь были очередные вопросы международных отношений и внешней политики: особенно интересовавшее Петра дело об испанском наследстве, прибытие шведских послов в Москву, вопрос об отдаче турками Каменца полякам во исполнение Карловицкого договора. Далее следуют вопросы законодательства, которое вообще начинает усиленно занимать Петра с 1699 г.: продолжая давать указы по проведению городской реформы, он занят составлением воинского устава в сотрудничестве с Вейде и с Брюсом и в то же время замышляет реформу наследственного права. Открытие железных заводов и снабжение их мастерами, оружейные мастера, пушки нового калибра, выписка из-за границы новых корабельных мастеров, заготовление леса в Архангельске, хранение гагаринского имущества, обмундирование поступивших на службу недорослей, прием на службу выезжих иноземцев, печатание русских книг в Амстердаме и присылка их в Архангельск, разного рода происшествия в Москве – таково содержание этой уцелевшей частной переписки. Но не следует забывать, что идет еще официальная переписка с приказами по их ведомствам, и многое из этой переписки докладывается царю и решается его именным указом и по вопросам внешней политики, и по делам внутреннего управления.
Несомненно, что Петр следил и за деятельностью цесарского посольства в течение последних недель его пребывания в Москве. Так же как бранденбургский посланник фон Принцен и датский Гейнс, приглашался приехать в Воронеж и Гвариент, и Петр там ждал его, но посол не прибыл. Произошло недоразумение. Когда боярин Л.К. Нарышкин вернулся в Москву из Воронежа 12 мая[149 - Корб. Дневник. С. 150.], он с удивлением спрашивал Гвариента: «Почему господин посол не пожелал приехать в Воронеж?.. Царь ждал его приезда шесть дней». То же подтвердил и датский посол. Но оказалось, что приглашение не дошло до Гвариента. Оно было направлено через Украинцева, который должен был передать его послу; но письмо с приглашением не застало Украинцева в Москве: он уже уехал в Воронеж, куда отправлено было вслед за ним и письмо[150 - Там же. С. 151.]. Заканчивая свою миссию в Москве, цесарское посольство должно было исполнить две формальности: во-первых, передать торжественное извещение о бракосочетании венгерского короля эрцгерцога Иосифа; во-вторых, быть принято в прощальной аудиенции. Эти церемонии за отсутствием царя совершены были при участии Л.К. Нарышкина. После предварительных переговоров 22 июня состоялась первая церемония. «Его царское величество отсутствовал, – описывает этот прием своим приподнятым, высокопарным слогом Корб, – более близкая его сердцу забота, желание славы, удовольствие получить новые корабли вызвали в нем похвальное стремление удалиться почти за триста миль к Меотидскому болоту недалеко от теснин Босфора Киммерийского; все же поручение требовало торжественности, которую устроил с благопристойным усердием первый министр Лев Кириллович Нарышкин. Для господина посла приведена была царская шести-упряжная колымага и лошади с царской конюшни, блещущие обычными украшениями. Господин посол остановился на дворе того дома, где боярин решил принять от имени царя известительную цесарскую грамоту; его приняли два дьяка и провели далее через много передних комнат; в преддверии последнего покоя, назначенного для настоящей торжественной обязанности, дожидался боярин. Для вящего торжества церемонии в этой же самой комнате стояли чиновники господина посла и многочисленная толпа царских писарей. Но когда боярин попросил господина посла сесть и началось совещание, то все получили приказание выйти, кроме Посникова, секретаря и переводчика»[151 - Корб. Дневник. С. 156.]. Чтобы как-либо возместить отсутствие царя на церемониях, послу было прислано письмо из Азова от боярина Ф.А. Головина, написанное по приказанию Петра. В письме Головин сообщал, что царь «указал пребывающим в Москве своим министрам, чтобы они во всем удовлетворили господина посла и постарались отпустить его с таким почетом, который не выпадал доселе ни одному министру, имевшему такое же достоинство»[152 - Там же. С. 157.]. Отпускная аудиенция состоялась 3 июля в Кремлевском дворце[153 - Там же. С. 159.]. Приезд посольства происходил по обычному ритуалу.
Не без ведома Петра были, конечно, составлены врученные на прощальной аудиенции Гвариенту две грамоты к цесарю, датированные 25 июня: одна с поздравлением и пожеланиями по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа, другая – обычная отпускная[154 - П. и Б. Т. I. № 272–273.]. Посольство выехало из Москвы 13 июля таким же торжественным поездом, каким и въезжало в столицу. Это было новшество, получившее начало с выезда фон Принцена; обыкновенно отъезд посольств происходил гораздо менее торжественно, чем въезд. Посол протестовал против такого небывалого почета, чтобы не создавать прецедента для соответствующих требований будущих русских посольств в Вене; в ответ ему было заявлено, что эти почетные проводы устраиваются по личному специальному приказанию царя. Очевидно, это была также компенсация за отсутствие царя на прощальной аудиенции. Парадный характер выезд посольства имел до конца Дорогомиловской ямской слободы; здесь простился с посольством сопровождавший его пристав, и посольство направилось в село Фили, имение Л.К. Нарышкина, куда было приглашено на обед. «Знаменитое поместье первого министра и боярина господина Льва Кирилловича Нарышкина, – пишет Корб, – по имени Фили, отстоит только на семь верст от Москвы. Боярин уже несколько дней тому назад пригласил господина посла на обед, который приготовлен был там же с большой роскошью… Г. послу надлежало свернуть с столбовой дороги со всею своею свитою в сопровождении представителей иностранных государей и очень многих офицеров царской службы. При въезде в имение, где было очень много гостей из немцев (иностранцев), нам выказали столько учтивости, что каждый хотел присвоить себе на этом поприще пальму первенства. Повсюду видели мы изъявление дружеских чувств, очень многие соперничали между собою, желая возможно правдивее доказать нам бескорыстие своей привязанности. Наконец, всеобщее внимание привлечено было столами, уставленными богатыми яствами. Кроме первого министра и его родственника, а также обычного нашего переводчика г. Шверенберга (Тяжкогорского), не было ни одного русского гостя, но место их в обилии заступали немцы (иностранцы)[155 - Корб имеет здесь в виду не только немцев, а вообще всех иностранцев, так как в то время русские называли немцами всех иностранцев, проживавших в Русском государстве.]. После господина цесарского посла сидели в таком порядке: датский посол, генерал де Гордон, бранденбургский резидент, Адам Вейд, цесарский пушечного дела полковник де Граге, полковник Яков Гордон, полковник Ачентон, цесарский миссионер Иоанн Берула, царский врач Карбонари, купец-католик Гваскони, купцы-некатолики: Вольф, Бранд и Липс; вперемежку с ними сидели тут же восемь чиновников цесарского посла. Обед устроен был почти с царственною роскошью; приготовлен он был не на русский лад, а хорошо приспособлен к немецкому вкусу. Кушанья были в редком изобилии; золотая и серебряная посуда отличалась высокой ценностью; на столе стояли разнообразные наилучшие напитки – все это свидетельствовало о кровном родстве хозяина с царем. По окончании обеда стали состязаться в стрельбе из лука; никто не мог отговориться от этого ссылкой на иностранный обычай или на неопытность в непривычном деле. Лист бумаги, воткнутый в землю, служил мишенью; первый министр неоднократно пробивал его посредине при всеобщих рукоплесканиях. Проливной дождь помешал нам в этом приятнейшем занятии, и мы снова удалились в боярские покои. Нарышкин взял за руку цесарского посла и отвел его в спальню своей жены, чтобы исполнить там обряд их взаимных приветствий. У русских нет иного способа, чтобы выразить свое особенное уважение: наивысшего почета удостоивается тот, кого муж с отменной вежливостью приглашает поцеловать его жену и выпить из ее рук глоток водки». В доме Л.К. Нарышкина иностранные обычаи, как видим, уживались с русскими: гости за столом – исключительно иностранцы и в то же время стрельба из лука и поцелуйный обряд в покоях жены. Нарышкин подарил послу дорогую соболью шубу. Корб замечает по этому поводу, что подарок был небескорыстен, что, делая его, Нарышкин мечтал получить в ответ от цесаря карету, подобно тому как такая карета была подарена князю В.В. Голицыну четырнадцать лет назад. Однако происшедший вслед за тем эпизод омрачил его отношения с Гвариентом. Из Филей Нарышкин пожелал повезти гостей «в другое свое имение, удаленное на две версты от настоящего, и с этой целью пригласил его в свою карету, а генерал Гордон уже ранее занял там первое место. Однако Нарышкин заслуживает скорее сожаления за свою простоватость, чем порицания за хитрость. Поэтому он совершенно растерялся при следующем замечании цесарского посла: «Вы ставите цесарского посла ниже генерала Гордона». В то время как Нарышкин старался каким-нибудь способом выйти из затруднения, цесарский посол сел в свой собственный экипаж и поехал в нем с прочими в имение. Нарышкин принял там гостей с отменной вежливостью, показывал им удобное место для охоты по склону ближнего холма, заросшего мелким кустарником и заканчивающегося долиной, и старался примирить с собой оскорбленного посла, подарив ему двух охотничьих собак, которых выдавал за самых лучших. Пробыв недолго в этом поместье, мы поблагодарили боярина и простились не только с ним, но и со всеми присутствовавшими там гостями… Полковник Гордон усиленно старался оправдать отца за оскорбление, полученное из-за него боярином»[156 - Корб. Дневник. С. 162–164.]. И эти приемы у Нарышкина делались, может быть, также по приказанию Петра; во всяком случае, он был о них своевременно осведомлен.
В июле была отправлена грамота к английскому королю с уведомлением о назначении посольства Украинцева в Константинополь и с просьбой, чтобы английский посол в Константинополе посодействовал его успеху[157 - П. и Б. Т. I. 29 июля. № 277.]. 30 июля датирована грамота к польскому королю об отозвании находившегося в Варшаве русского резидента Алексея Никитина и о назначении на его место нового резидента стольника Любима Судейкина[158 - П. и Б. Т. I. № 278.]. И эти документы, конечно, не миновали взоров Петра.
По докладам из приказов Петр давал именные указы, касавшиеся назначений различных лиц на должности[159 - См., например, Дворцовые разряды. Т. IV. С. 1106; назначение подьячего Посольского приказа Михаила Родостамова в дьяки того же приказа; «о том его, великого государя, указ прислан чрез почту с Таганрогу августа в 18 числе нынешнего году». Там же о назначении Степана Ключарева в дьяки царской Мастерской палаты.], причем из сферы этой его деятельности не выходит и церковное управление. Наиболее крупным происшествием тогда в церковной сфере была перемена на крутицкой кафедре. Митрополит Крутицкий Тихон был назначен митрополитом Казанским и Свияжским; на его место Петр приказал перевести нижегородского митрополита Трифилия. Патриарх Адриан был против такого перевода. Не решаясь писать о том царю прямо и непосредственно, он обратился к нему через находившегося при нем в Азове боярина Т.Н. Стрешнева. «Сие дело, – писал он последнему 13 июля, – зело неприлично». Во-первых, священные правила запрещают переводить епископа с одной кафедры на другую без какой-либо его церковной или гражданской вины. Затем, Трифилий – человек старый и болезненный, а крутицкая кафедра требует непрестанного труда. К тому же еще «в Нижнем-граде многие от приказного сына его митрополичья (яко слышахом) сотворишася оскорбления людем» и в доме архиерейском большие непорядки и недочеты. Обо всем этом патриарх просит Т.Н. Стрешнева доложить государю и напомнить ему при этом, что сам он говорил, будучи у него, патриарха, в келье, чтобы на крутицкую кафедру «избран был, кто потребен», т. е. чтобы был найден подходящий человек и чтобы он, государь, «изволил сие превождение отставить», т. е. отменить распоряжение о переводе. О том же просят государя вместе с ним, патриархом, и все находящиеся в Москве архиереи. К письму приложена была особая записка, где против кандидатуры Три-филия выдвигается еще одно соображение, которое должно было, по мнению патриарха, особенно подействовать на Петра; здесь же указывается другой, более подходящий кандидат. В Москву нужен, говорится в записке, такой архиерей, которому можно было бы поручить управление книжным печатным двором (типографией) и надзор над академией, «где учатся дети и возрастные отроки славенского нашего греческого и латинского языка и грамматического знания» на пользу церкви и государству: «ради всяких к потребе гражданских благоразумных соделований: и переводчиков, и лекарских искусств, даст Господь, будут навыкати». Требовался, следовательно, человек образованный, склонный к книгам. Подходящим кандидатом был бы архиепископ Холмогорский Афанасий – «и ради немощей моих прежде бысть намерение о колмогорском владыке, дабы и в вышеписанных делах способствовал». Записка заканчивается повторением просьбы: «Пожалуй, Господа ради, сотвори любовь и, будет возможно, доложи или, зачем будет невозможно, отпиши, чтобы было лучшее и угоднее всем». Неизвестно, докладывал ли Стрешнев письмо патриарха Петру. Во всяком случае, уже 20 июля вопреки желанию патриарха состоялся в Успенском соборе перед литургией обряд перевода Трифилия на крутицкую митрополию[160 - Устрялов. История… Т. III. С. 500–501; Дворцовые разряды. Т. IV. С. 1104.].
Среди занимавших его крупных и мелких государственных дел Петр помнил и о своих друзьях, живших за границей «для науки», и находил время следить за их успехами и вести с ними корреспонденцию в дружеском шутливом тоне. Выше упоминалось, что 13 июня он писал из Азова в Берлин волонтеру своего десятка Анике Щербакову. Щербаков в Амстердаме учился голландскому языку, а теперь, находясь в Берлине вместе с другим волонтером того же десятка С.Г. Нарышкиным и с преображенским солдатом Д.Д. Новицким, учился немецкому языку, математике и артиллерии. В письме, как можно догадываться из ответа Щербакова, царь говорил о каком-то челобитье, с которым Щербаков к нему обращался, об умножении «наших компаний», т. е. числа молодых людей, подготовленных к морскому делу или уже занятых им, которых Щербаков уже предполагает триста, а к своему возвращению рассчитывает найти четыреста, далее «о кораблях и галерах» – сообщение, вызвавшее радость у обучавшихся в Берлине, которые по этому случаю «все вместе сошлись и поздравляли о том, чтоб все нашему всемилостивейшему государю по желанию исполнилось, как сам в мысли своей имеешь». Наконец, из ответа Щербакова видно, что Петр написал особую «грамотку», в которой потешался над находившимся также в Берлине одним из учеников, «самом чуднейшем и чрез меру редко бываемом человеке, – как его аттестует Щербаков, – господине Даниле Дмитриевиче Новицком». В ответе Щербаков также подсмеивается над Новицким, говорит, что он от своей науки «зело возвысился» и что еще в свете не было такого ученого и разумного. Новицкий хвалится, что выучил все, что было повелено ему государем: геометрию и математику, а между тем еще «ни одной цыфири (т. е. цифры) не знает». Он говорит, что день и ночь работает над чертежами пушек и мортир и собирается начать учиться пушки лить, но «мне мнится», замечает по этому поводу Щербаков, что столько же выучится, сколько и математике. Петр писал также, что Новицкому ехать до границы на своих харчах, но того он не желает, хотя и может, потому что курфюрст выдает ему 15 ефимков в месяц. Вообще он едва ли возвратится, потому что занят в Берлине своей женитьбой, связанной с каким-то судебным процессом. Петр в грамотке подымал вопрос и об этой женитьбе, служившей также предметом острот и шуток. «Что же о женитьбе его приналежит, – отвечает Щербаков, – он такую женитьбу выбрал, что насилу кто из нас такую возможет ли получить». Как это дело кончится, еще неизвестно, «потому что еще в тяжбе пребывает, его свадебная одежда зело изодралась, насилу не в одной рубахе ходит». Что Новицкий пишет, «что он не хочет на свете жить, тому я верю подлинно, потому что он жития уже насытился и ожидает по вся часы с неба святых ангелов, которые б его живого в небо отвели, как Илию пророка». Насмешками над Новицким полно также письмо из Берлина к Петру от другого волонтера, С.Г. Нарышкина. «О Даниле Дмитриевиче Новицком, – пишет Нарышкин, – возвещаю моему всемилостивейшему государю, что его все поведение здесь зело худо есть»; он выдает себя в Берлине за знатнейшего комнатного дворянина у царя, хвалится множеством деревень и подданных и, распустив о себе такие слухи, «тем девицу здесь в городе к супружественному сговору привел, а нас всех за робят ставил и не почитал ни во что». Относительно учения кронпринц и граф фон Денов ему несколько раз напоминали, чтоб он был прилежнее, но это не помогает; он очень высокого мнения о своих успехах и познаниях, «чает бутто он уже совершен в своих делех, думает уже профессором стать во академии в Франкфурте». В Москву не хочет ехать, думает здесь, в Берлине, получить какую-либо службу; больше полугода ведет тяжбу о свадьбе, но еще не покончил, и неизвестно, когда это кончится. Письма Щербакова и Нарышкина написаны были на немецком языке, как лучшее свидетельство об их научных успехах[161 - П. и Б. Т. I. С. 773–776.].
Наконец, в переписке не забыта была и сердечная привязанность – Анна Ивановна Монс. Сохранились за это время два ее письма – от 28 мая и от 25 июля, оба в ответ на не дошедшие до нас письма Петра. В первом вслед за многословными изъявлениями благодарности за то, что пожаловал, дал ведать о своем многолетнем здоровье и т. д., и пожеланиями здоровья, счастливого пребывания и скорого возвращения Анна Ивановна отвечает на просьбу Петра о присылке какой-то цедрооли: «А что изволили писать об цедрооли, и я ожидаю всякой час, и как скоро привезут, и я, не замешкав, пошлу, и если бы у меня убогой крылие былы, и я бы тебе, милостивому государю, сама принесла». Склонность к ней Петра Анна Ивановна не прочь была использовать для устройства дел, о которых ее просили, зная ее близость к царю. Так, в приводимом письме она хлопочет перед царем за вдову Петра Салтыкова в ее тяжбе с неким Лобановым и просит царя указать перенести ее дело из Семеновского приказа в какой-нибудь другой; если же это царю неугодно, то, по крайней мере, не велеть брать людей Салтыковой на правеж до его возвращения в Москву. «Мне, государь, – заканчивает письмо Анна Ивановна, – от ней упокою нет, непрестанно присылает с великими слезами. Пожалуй, государь, не прогневися, что я об делах докучаю милости твоей. За сим здравствуй, милостивой государь, на множество лет. Sein getreue Dinnerin bet in mein Dot. A. M. M. Den 28 Маi». Видимо, царю не очень понравилось вмешательство Анны Монс в дело Салтыковой с Лобановым, и, должно быть, он это ей дал понять. По крайней мере, в следующем письме от 25 июля она пишет: «Прошу у тебя, милостивова государя, пожалуй, прасти [в] вине моей меня, убогую рабу свою, что я к милости твоей писала об деле Солтиковой вдовы; я о том опосна, чтобы фпредь какова гневу не было от тебя, милостивова государя, что я так дерзновенно зделала. Sein getreue Dinnerin bis in mein Tod. A. M. M. Dem 25 Julii»[162 - Там же. С. 768–769, 779.].
XIII. Плавание к Керчи
В воскресенье 30 июля в девятом часу утра был созван военный совет на корабле адмирала; было указано, чтобы все окончательно было приготовлено к плаванию, на что собравшиеся, к великому удовольствию царя, как замечает Крюйс, отвечали, что «все готово и корабли совсем вооружены». Царь при этом приказал всем офицерам быть готовыми к производству при первом же благоприятном ветре примерного морского сражения – «с эскадрою обучительную баталию держать». Он дал было уже и сигнал к началу такого маневра, чтобы якоря вынимали и шли на глубокую воду. Однако ветер к полудню спал, и маневр пришлось отложить[163 - Экстракт из журнала… Крейса (Записки Гидрографического департамента. Ч. VIII. С. 380).].
Эскадра, назначенная к плаванию в Керчь, составилась из 10 больших кораблей; именно в нее вошли корабли: «Скорпион» – 62 пушки, на нем адмирал Ф.А. Головин, «Благое начало» – вице-адмирал Крюйс, «Цвет войны» – шоутбейнахт фон Рез, «Отворенные врата» – капитан Петр Михайлов, далее «Апостол Петр», «Сила», «Безбоязнь», «Соединение», «Меркурий», «Крепость» – на них капитанами были иностранные офицеры. На корабле «Крепость» находилось посольство, перебравшееся на него со своих будар еще 22 июля. Сверх этих больших судов в состав эскадры входили: 2 галеры – «Периная тягота» и «Заячий бег», кипарисная яхта царя, 2 галиота, 3 бригантины и 4 казачьих струга, на которых находилось 500 выборных казаков с атаманом Фролом Минаевым[164 - Елагин. Ук. соч. С. 130 и приложение IV, № 23. В указании мелких судов источники разногласят: «Статейный список» дает 2 галиота и 3 бригантины (л. 14); Записка о Керченском походе, находящаяся в Арх. Мин. ин. дел. Дела турецкие 1699 г., № 9 и напечатанная у Елагина (ук. соч., приложение IV, № 23), дает 1 галиот и не указывает бригантин. Такое же разногласие в числе казаков: в «Статейном списке» (л. 14) их указано 500; в «Записке» (л. 45) – 300.]. Чтобы получить представление о составе экипажа на кораблях, приведем для примера состав экипажа 46-пушечного корабля «Крепость», точно перечисленный в «Статейном списке» посольства. Кроме посольства на нем находились: а) иностранцы: капитан голландец Петр фон Памбург, лейтенант Лукас Гендриксон, 2 штурмана, 1 подштурман, 1 боцман, 2 боцмансамт, 1 кон-стапель, 1 лекарь, 1 толмач, 16 матросов; б) русские служилые люди Преображенского и Семеновского полков: 2 сержанта, 1 каптенармус, 5 матросов из тех же преображенцев и семеновцев, исполнявших со времени Азовских походов также и матросскую службу, 1 ротный писарь, 4 капрала, 2 барабанщика, 96 рядовых солдат. Всего иностранцев и русских в составе экипажа было, следовательно, 138 человек[165 - Арх. Мин. ин. дел. Книга турецкого двора, № 27, л. 11; ср. л. 24–25. Состав посольства был 72 человека.]. На всех судах эскадры насчитывалось 2000 солдат Преображенского и Семеновского полков «во всякой воинской готовности»[166 - Записка о Керченском походе (Елагин. Ук. соч., приложение IV, № 23. С. 430).].
5 августа в полдень эскадра двинулась в путь. При самом «подымании якорей» Петр писал в Москву, между прочим, А.А. Вей-де о выходе эскадры для провожания посла и к письму приложил «карту», вероятно предполагаемого пути[167 - В ответе из Москвы от 24 августа Вейде поздравляет Петра «с новым московским воинским флотом», радуется его выходу в море и желает ему процветания и умножения «силою и славою» (П. и Б. Т. I. С. 781–782).]. Отошли от Таганрога верст с двадцать, но ночью разразился «великий сторм», стали на якоря и простояли до 7, когда опять вернулись в Таганрог[168 - Юрнал. С. 6; Арх. Мин. ин. дел. Книга турецкого двора, № 27, л. 14–15. «Статейный список» день отплытия приурочивает к 4 августа; отдаем преимущество «Юрналу».]. В этот день устроена была на таганрогском рейде примерная баталия, опыт которой не удался 30 июля. «В 7-й день сего месяца, – описывает этот маневр Крюйс, – в понедельник поутру ветр был вест-норд-вест и учинен обыкновенный сигнал от адмирала всем лейтенантам, чтоб к нему на корабль были, и роздал им следующую линию баталии». Перечислив далее (и надо заметить, очень неточно) имена судов, входивших в состав эскадры, с указанием, также очень неточным, числа пушек и людей на каждом, Крюйс продолжает: «Потом дан сигнал, чтоб якори вынимали, и, шед с час вестен-зюйден и вест-зюйдвест, дал адмирал сигнал, чтоб ранжировалися; и, как корабли в ордер линии приведены, дал адмирал сигнал к сражению, что изрядным порядком учинено. И продолжался сей забавной бой 1
/