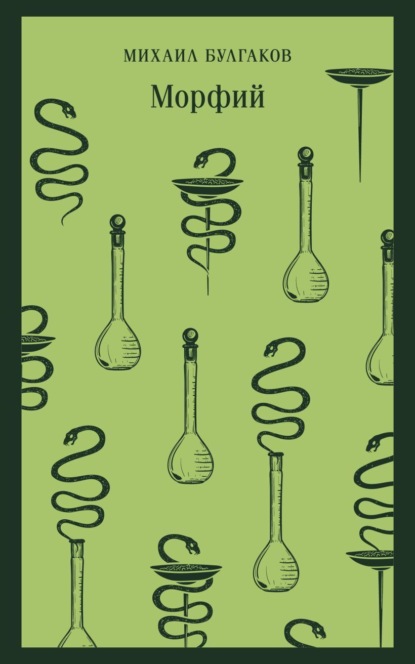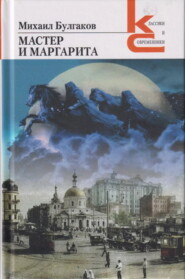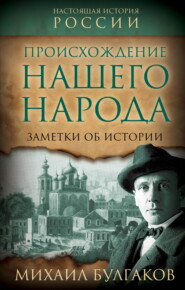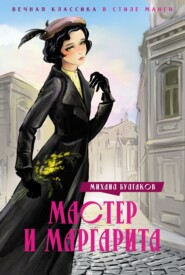По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Морфий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И здесь – так же хрипло и страшно:
С Интернационалом!!
Во тьме – теплушек ряд. Смолк студенческий вагон…
Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..
Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли… потекли…
Женский голос:
– Ах… не могу!
Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.
– Позвольте, я возьму.
На мгновенье показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?
– Три пуда… Утаптывали муку.
Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.
От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.
Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец на путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.
Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще… В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!
Голос медички:
– А вы куда?
– А не знаю.
– То есть как?..
…Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь…
– О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.
Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.
* * *
На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.
Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю… знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор – Конан Дойль. Любимая опера – «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.
Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Иваныча Иванова. У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, белая?»
Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало… так, масло… так, белая, черная… так».
Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.
Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!
* * *
Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.
Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7
В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.
В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.
Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояли. Мелькнула комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».
– Где Лито? – спросил я, облокотившись на деревянный барьер.
Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая – не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь – ванная. А на другой двери маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. «Ли». А, слава Богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: «Ду-ду-ду…»
Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь – вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? «Ду-ду-ду…» Разговаривают… А вдруг это Брюсов с Белым?..
И я легонько стукнул в дверь. «Ду-ду-ду» прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять «ду-ду-ду». Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры – сломал! Опять постучал. «Да! Да!»
– Не могу войти! – крикнул я.
В замочной скважине прозвучал голос:
– Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли…
Вправо, влево, мягко подалась и…
После Горького я первый человек
Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза eгo обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой – седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами – был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.
Потухшим взором я обвел лицо, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout. Как-то косноязычно:
– Это… Лито?
– Да.
– Нельзя ли видеть заведующего?