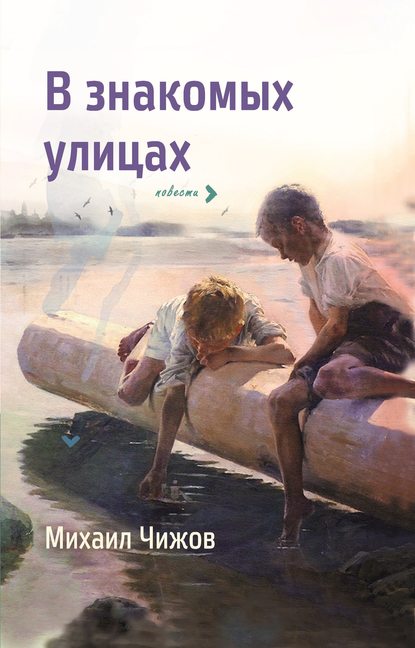По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В знакомых улицах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но метров через сто брат опять сказал, что сейчас пройдёт трамвай, но теперь уже справа налево. И вот чудо – прошёл. Тут уж я забеспокоился и очень разозлился.
– К-а-к? Откуда ты знаешь? – заикаясь от злости, прошептал я.
– Я – оракул и волшебник. Учись, мелочь пузатая, пока я жив! – крикнул брат, а сам отскочил в сторону, потому что я, хоть, будучи младше на три года, мог со злости больно ударить.
Я и в самом деле почувствовал себя круглым дураком, хотя и не знал, кто такой «оракул», но… «волшебник». Это слишком. Как же он, засранец, отгадывает, когда идти трамваю? – спрашивал я себя и не находил ответа. Выйдя на перекрёсток, я огляделся, пытаясь найти отгадку, но где там… Единственное, что бросилось в глаза – это вновь установленные светофоры, которые только-только стали появляться в городе. Тут же, на перекрёстке, находилась школа, во втором классе которой учился брат. Понятно, что Валерка знает этот перекрёсток как свои пять пальцев, но как его знание связано с трамваями – вот в чём загадка.
По Ильинке громыхали полупустые деревянные трамваи с незакрытыми дверями, изредка фыркали чёрные и юркие «Эмки» и величаво проплывали трёхосные американские «Студебекеры». Но я ничего не замечал вокруг, озабоченный загадкой, преподнесённой мне братом. Чертовщина какая-то.
Будь Валерка чуть великодушнее, и поясни мне истинную причину, то я зауважал бы его за находчивость. Но он ломался, словно тульский пряник, вызывая во мне досаду и раздражение. Состязательность, которой мы переполнялись, была хороша до поры до времени. Излишки в любом деле, даже в хорошем, несут в себе отчуждение и даже вражду. Слава Богу, что генетически я оказался свободным от зависти, а не то…
Решил я Валеркину задачку лишь спустя три года, когда сам стал учиться в этой школе. Ларчик открывался просто и с изрядной долей везения. Трамваи ожидали, когда для них загорится зелёный свет светофора, а для нас – красный, видимый издалека. Валерка брякнул наобум, увидев красный свет, что пойдёт трамвай. Конечно, интервал движения трамваев составлял не тридцать секунд – период чередования света у светофоров в ту пору, а гораздо больше, но брату повезло. Его величество случай! Он сумел поразить моё воображение.
Этот день стал богат на потрясения.
Наконец показалась красная кирпичная кладбищенская стена. Прямая и длинная, как стрела, она казалась монолитной и монотонной, словно «Болеро» Равеля. И в то же время зыбкой, купающейся в призрачном, знойном мареве, исходящем от перегретого булыжника, выложенного вдоль неё. И не тяготы пешего перехода, не физическое изнурение запомнились более всего, а одинокая старуха в чёрном, идущая вдоль стены, почти касаясь плечом ярко-красной кладки. Чёрный глухой редингот до пят, чёрная маленькая шляпка с чёрной вуалью, закрывающей лицо, чёрная сумочка на фоне рябиновой стены с белыми, исключительно ровными прожилками известкового раствора, замешенного, как объясняла мама, на яичном желтке.
Я вцепился в мамину руку, забыв о всех испытаниях и мучениях.
– Мама, кто это? – в моих глазах бился, наверно, огонь страха.
– Скорбящая мать или бабушка, – просто ответила мама, – она не ведьма из сказки. Не бойся.
Сильных и сложных чувств должно быть немало в детстве, иначе инфантильность сожмёт душу до угрожающих своей малостью размеров. И когда в пятнадцать лет я посмотрел фильм «Девять дней одного года» с больным Гусевым (Баталовым), бредущим на фоне стены какого-то огромного белого здания, память услужливо высветила мне, как на экране, печальную старуху, устало передвигающую ноги вдоль кладбищенской красной стены, бесконечной стены, чтобы помянуть своих любимых и дорогих детей. Мне легко понять настойчивого, порой упрямого Гусева, и жутковатую на вид старуху, и безымянную стену, часто вырастающую перед моим сознанием в трудную минуту. Её порой надо прошибить своей волей, как лбом…
– Как это грустно, что матерям приходится хоронить своих детей, – добавила тогда мама.
Слава Богу, ей не пришлось этого делать.
Обратной дороги будто и вовсе не было. Сила образа скорби, воплощённого в старухе у красной стены, победили усталость, жажду, злость от всезнайства брата. Всё негативное забылось. Остались образы неразделённого горя, тихой грусти и красной стены. Они не растворились в сумерках искрой вспыхнувшего, но ещё несовершенного сознания. Из-за того, видимо, что часто приходилось видеть этот кладбищенский кирпич, убитых горем людей. Когда родители, тётки и дядья старше тебя на сорок-пятьдесят лет, это не удивительно.
Всякий раз, когда я иду по кладбищу, неведомая сила заставляет меня скользить взглядом по лицам, фамилиям, именам, датам погребённых. Машинально отмечаешь интересные факты и образы, иногда даже считаешь, сколько лет жил некто, да ещё скажешь при этом: «Хорошо пожила старушка» или «Ого, силен старик!» Трудно определить необходимость этого действа. Тем самым ты вроде отдаёшь дань памяти совсем неизвестным людям, или представляешь, как будет выглядеть место твоего последнего упокоения, или пытаешься найти подтверждение красиво звучащему утверждению «ничто не проходит бесследно». Тогда-то и понимаешь, что кладбище – не место для человеческой души. На нём витают только факты, воссоздающие образы прошлого.
Если же упрёшься взглядом в кладбищенскую дорогу, чтобы не глядеть на бесчисленные имена, то странные чувства овладеют вдруг тобой, словно десятки, сотни глаз покойных с осуждением глядят на тебя. И снова скользишь взглядом по постаментам, по плитам, как бы пытаясь найти имя родного или знакомого человека. Их на кладбище становится всё больше, а вокруг меня меньше. Тех, с кем я часто ходил по знакомым улицам.
Мама
«Жаворонки» – так называется народный праздник в день весеннего равноденствия, на который пекут из теста фигурки жаворонков и закладывают в них монеты или памятные амулеты. Почему-то этот обычай называют языческим, как будто народ не заслужил своих традиций, кроме религиозных. Особая любовь простых людей к жаворонкам объясняется просто: именно эта птаха вьётся в синем бездонном небе, когда крестьянин пашет и сеет. Она своей звонкой песней скрашивает тяжкий труд земледельца, заставляет его, пусть на секунду, оторваться и посмотреть в небо, лишний раз обратиться к Богу. Знает ли мир других певцов, подобных жаворонку, что не сидят во время пения на веточке или крепкой жердочке, надёжно охватив её тоненькими цепкими лапками, а парят под куполом небес, творя песню пробуждающейся к жизни земле? «Над полями, да над чистыми…».
– Чтобы злые духи не проникли в дом, на дверях перед этим праздником рисуют кресты, – сказала мама мне, вьющемуся вокруг неё и, вероятно, мешающему ей.
Зачем она сказала мне об этом? Не знаю. Я понял её слова как приказ к действию.
Мел я без труда нашёл в потайном ящичке швейной машинки «Зингер». Изрисовать крестами двери, а они были высокими, было нетрудно, но хлопотно: пришлось таскать за собой табуретку. Но мне этого показалось мало.
Я оделся и вышел во двор. Взял палочку в сарае и стал царапать кресты на снегу во дворе, но узкий двор почти полностью убирался от снега, тогда я перешёл в сад. И замер. Чёрные, как уголь, крупные птицы с белым колечком у основания носа купались в глубоком снегу. Я знал, что это грачи: ведь в кухне висела репродукция с картины Саврасова «Грачи прилетели». Один из них, видимо, особенно «грязный», закрыв глаза, забивался в снег с головой, ничуть не боясь меня и моего внимания. Долго он купался, долго и я стоял, наблюдая за ним. Наконец он улетел, а я, забивая валенки снегом, рисовал кресты. Здесь работы было много. Я нацарапал их десятки, заполнив всё белое пространство.
Смотрел ли на меня с небес ангел? Одно точно – истовости моей можно было позавидовать: уж очень мне не хотелось, чтобы злые духи или люди – это неважно, – именно злые (это слово я уже хорошо знал) не прошли в родной дом.
Помнится, что день стоял неяркий, пасмурный. Переполняло ли меня ощущение причастности к чему-то великому и тайному, известному лишь моей душе, я не знаю. Помню, что я впервые почувствовал себя защитником мамы, отца и всех родных. Маленький мальчик, рисующий кресты на снегу под хмурым низким небом в заснеженном саду с высокими глухими заборами. Картина казалась дикой в своей неестественности, заброшенности и отрешённости от мира, что шумел вокруг меня. Мира, который украдёт у меня спустя годы детскую чистоту и светлую, пропитанную искренней верой наивность, сделает меня жёстче, суше, официальнее. Жизнь часто похожа на облака даже внешне. Плывёт над головой лёгкая тучка, похожая на женское красивое лицо. Ветерок мало-помалу размывает его прекрасные черты: нос утолщается, губы растягиваются, дева дурнеет, дурнеет, а потом и вовсе расплывается без следа…
Мама пребывала в вечных хозяйственных делах и заботах о нас, пятерых детях, о муже, о свёкре и свекрови. Она топила русскую печь и готовила еду, кормила скотину, доила корову, стирала руками постельное бельё, наши многочисленные штаны и подштанники, рубахи и майки. Мыла полы в доме, а перед праздниками и в сенях, и в чуланах. Перед Пасхой она мыла крашенные маслом стены и потолки, перетирала всё, на что могла сесть пыль. Залезала рукой в самые удалённые углы, где паук мог сплести свою прочную и плохо заметную паутину. Мама полола огород: две грядки с луком, две грядки с огурцами и клубникой, одну – с чесноком и одну с морковью. Она следила за курами, чтобы те не клохтали, купала в бочке с водой непослушных, и вместе с клушкой выводила цыплят. Когда с нами жили старшие её дочери, они всячески помогали ей, но, оставшись без них, разбросанных по Союзу молодых специалистов, она тянула эту хозяйственную ношу одна-одинёшенька. Отец копал по весне огород, чистил хлев, разбрасывал навоз и подметал двор, носил с нами – Валеркой и мной – воду из водоразборной колонки.
Труд не старил нашу маму, только пальцы рук от многолетней дойки к старости скрутила подагра. К 26 годам у неё уже было трое детей, но она, по словам всех очевидцев, выглядела девчонкой. Мама со смехом рассказывала, как однажды ехала перед войной в трамвае, в том старом трамвае с деревянными сидениями, стоящими друг против друга. Как лицом к ней сел молодой мужик и долго смотрел на неё, изучая миловидное лицо с озорным от курносости носом, алые нетолстые губы, мягкий овал лица, обрамлённый чёрными как смоль волосами. Смотрел-смотрел, и стал вдруг сжимать её ноги коленями, с намёком заглядывая в глаза. «Не нахальничай!» – строго сказала мама. «Пойдём погуляем», – предложил парень. «Ты в своём уме? У меня трое детей!» Парень покраснел, тотчас встал и вышел из трамвая. Она могла защитить себя простыми словами, сказанными негромко и с предельной ясностью, доходящей до самого тупого.
Мама никогда не воспитывала нас общепринятым, нотационным способом. Никаких нравоучений я никогда не слышал от неё, – кажется, что она их не знала. То, что требовалось до нас донести, она демонстрировала показом или рассказом. Ненавязчиво, мягко и устало. Лишь после смерти её я узнал, откуда это раздумчиво-философское выражение маминых глаз. От больного сердца. На Гребешке к маме часто забегала участковый врач, чтобы послушать её сердце. Да, вот так: без вызова, без просьб, а просто по велению долга приходила врач. Какое-то редкое заболевание. После переезда на новое место к маме уже никто из врачей не ходил. Она не знала дорогу в поликлинику, и мы забыли, что у мамы больное сердце.
Часто она ссылалась на Святое Писание, но как мило она это делала! Схватишь, бывало, после сна что-нибудь из съестного, она заметит (как она всё успевала?) и скажет тихо, но не елейным голоском, словно набожная монахиня или слепая нищая, а уверенно, как умудрённый знаниями человек: «Нельзя греховными, не омытыми руками брать еду. Она – от Бога».
Кусок тут же застрянет в горле, и я, чтобы исправиться, стремглав бежал к рукомойнику и споласкивал руки водой, а потом умывался, вспоминая ещё одно наставление из Маминого Писания: «Прежде, чем сморкаться, умой руки и лицо». Сморкнуться же хочется сразу.
Пустяковые на первый взгляд советы. Главная сила не в них, а в устах, их вымолвивших. Это ясно становится позже, гораздо позже. Все эти наставления, порой шутливые, каким-то неведомым способом запомнились на всю жизнь, дисциплинируя нас. Подчиняться, соблюдать их было необременительно и даже приятно. Всегда легко подчиняться человеку, любящему тебя, и всем тем, кто уважает подчинённого, поднадзорного, воспитываемого.
– К-а-к? Откуда ты знаешь? – заикаясь от злости, прошептал я.
– Я – оракул и волшебник. Учись, мелочь пузатая, пока я жив! – крикнул брат, а сам отскочил в сторону, потому что я, хоть, будучи младше на три года, мог со злости больно ударить.
Я и в самом деле почувствовал себя круглым дураком, хотя и не знал, кто такой «оракул», но… «волшебник». Это слишком. Как же он, засранец, отгадывает, когда идти трамваю? – спрашивал я себя и не находил ответа. Выйдя на перекрёсток, я огляделся, пытаясь найти отгадку, но где там… Единственное, что бросилось в глаза – это вновь установленные светофоры, которые только-только стали появляться в городе. Тут же, на перекрёстке, находилась школа, во втором классе которой учился брат. Понятно, что Валерка знает этот перекрёсток как свои пять пальцев, но как его знание связано с трамваями – вот в чём загадка.
По Ильинке громыхали полупустые деревянные трамваи с незакрытыми дверями, изредка фыркали чёрные и юркие «Эмки» и величаво проплывали трёхосные американские «Студебекеры». Но я ничего не замечал вокруг, озабоченный загадкой, преподнесённой мне братом. Чертовщина какая-то.
Будь Валерка чуть великодушнее, и поясни мне истинную причину, то я зауважал бы его за находчивость. Но он ломался, словно тульский пряник, вызывая во мне досаду и раздражение. Состязательность, которой мы переполнялись, была хороша до поры до времени. Излишки в любом деле, даже в хорошем, несут в себе отчуждение и даже вражду. Слава Богу, что генетически я оказался свободным от зависти, а не то…
Решил я Валеркину задачку лишь спустя три года, когда сам стал учиться в этой школе. Ларчик открывался просто и с изрядной долей везения. Трамваи ожидали, когда для них загорится зелёный свет светофора, а для нас – красный, видимый издалека. Валерка брякнул наобум, увидев красный свет, что пойдёт трамвай. Конечно, интервал движения трамваев составлял не тридцать секунд – период чередования света у светофоров в ту пору, а гораздо больше, но брату повезло. Его величество случай! Он сумел поразить моё воображение.
Этот день стал богат на потрясения.
Наконец показалась красная кирпичная кладбищенская стена. Прямая и длинная, как стрела, она казалась монолитной и монотонной, словно «Болеро» Равеля. И в то же время зыбкой, купающейся в призрачном, знойном мареве, исходящем от перегретого булыжника, выложенного вдоль неё. И не тяготы пешего перехода, не физическое изнурение запомнились более всего, а одинокая старуха в чёрном, идущая вдоль стены, почти касаясь плечом ярко-красной кладки. Чёрный глухой редингот до пят, чёрная маленькая шляпка с чёрной вуалью, закрывающей лицо, чёрная сумочка на фоне рябиновой стены с белыми, исключительно ровными прожилками известкового раствора, замешенного, как объясняла мама, на яичном желтке.
Я вцепился в мамину руку, забыв о всех испытаниях и мучениях.
– Мама, кто это? – в моих глазах бился, наверно, огонь страха.
– Скорбящая мать или бабушка, – просто ответила мама, – она не ведьма из сказки. Не бойся.
Сильных и сложных чувств должно быть немало в детстве, иначе инфантильность сожмёт душу до угрожающих своей малостью размеров. И когда в пятнадцать лет я посмотрел фильм «Девять дней одного года» с больным Гусевым (Баталовым), бредущим на фоне стены какого-то огромного белого здания, память услужливо высветила мне, как на экране, печальную старуху, устало передвигающую ноги вдоль кладбищенской красной стены, бесконечной стены, чтобы помянуть своих любимых и дорогих детей. Мне легко понять настойчивого, порой упрямого Гусева, и жутковатую на вид старуху, и безымянную стену, часто вырастающую перед моим сознанием в трудную минуту. Её порой надо прошибить своей волей, как лбом…
– Как это грустно, что матерям приходится хоронить своих детей, – добавила тогда мама.
Слава Богу, ей не пришлось этого делать.
Обратной дороги будто и вовсе не было. Сила образа скорби, воплощённого в старухе у красной стены, победили усталость, жажду, злость от всезнайства брата. Всё негативное забылось. Остались образы неразделённого горя, тихой грусти и красной стены. Они не растворились в сумерках искрой вспыхнувшего, но ещё несовершенного сознания. Из-за того, видимо, что часто приходилось видеть этот кладбищенский кирпич, убитых горем людей. Когда родители, тётки и дядья старше тебя на сорок-пятьдесят лет, это не удивительно.
Всякий раз, когда я иду по кладбищу, неведомая сила заставляет меня скользить взглядом по лицам, фамилиям, именам, датам погребённых. Машинально отмечаешь интересные факты и образы, иногда даже считаешь, сколько лет жил некто, да ещё скажешь при этом: «Хорошо пожила старушка» или «Ого, силен старик!» Трудно определить необходимость этого действа. Тем самым ты вроде отдаёшь дань памяти совсем неизвестным людям, или представляешь, как будет выглядеть место твоего последнего упокоения, или пытаешься найти подтверждение красиво звучащему утверждению «ничто не проходит бесследно». Тогда-то и понимаешь, что кладбище – не место для человеческой души. На нём витают только факты, воссоздающие образы прошлого.
Если же упрёшься взглядом в кладбищенскую дорогу, чтобы не глядеть на бесчисленные имена, то странные чувства овладеют вдруг тобой, словно десятки, сотни глаз покойных с осуждением глядят на тебя. И снова скользишь взглядом по постаментам, по плитам, как бы пытаясь найти имя родного или знакомого человека. Их на кладбище становится всё больше, а вокруг меня меньше. Тех, с кем я часто ходил по знакомым улицам.
Мама
«Жаворонки» – так называется народный праздник в день весеннего равноденствия, на который пекут из теста фигурки жаворонков и закладывают в них монеты или памятные амулеты. Почему-то этот обычай называют языческим, как будто народ не заслужил своих традиций, кроме религиозных. Особая любовь простых людей к жаворонкам объясняется просто: именно эта птаха вьётся в синем бездонном небе, когда крестьянин пашет и сеет. Она своей звонкой песней скрашивает тяжкий труд земледельца, заставляет его, пусть на секунду, оторваться и посмотреть в небо, лишний раз обратиться к Богу. Знает ли мир других певцов, подобных жаворонку, что не сидят во время пения на веточке или крепкой жердочке, надёжно охватив её тоненькими цепкими лапками, а парят под куполом небес, творя песню пробуждающейся к жизни земле? «Над полями, да над чистыми…».
– Чтобы злые духи не проникли в дом, на дверях перед этим праздником рисуют кресты, – сказала мама мне, вьющемуся вокруг неё и, вероятно, мешающему ей.
Зачем она сказала мне об этом? Не знаю. Я понял её слова как приказ к действию.
Мел я без труда нашёл в потайном ящичке швейной машинки «Зингер». Изрисовать крестами двери, а они были высокими, было нетрудно, но хлопотно: пришлось таскать за собой табуретку. Но мне этого показалось мало.
Я оделся и вышел во двор. Взял палочку в сарае и стал царапать кресты на снегу во дворе, но узкий двор почти полностью убирался от снега, тогда я перешёл в сад. И замер. Чёрные, как уголь, крупные птицы с белым колечком у основания носа купались в глубоком снегу. Я знал, что это грачи: ведь в кухне висела репродукция с картины Саврасова «Грачи прилетели». Один из них, видимо, особенно «грязный», закрыв глаза, забивался в снег с головой, ничуть не боясь меня и моего внимания. Долго он купался, долго и я стоял, наблюдая за ним. Наконец он улетел, а я, забивая валенки снегом, рисовал кресты. Здесь работы было много. Я нацарапал их десятки, заполнив всё белое пространство.
Смотрел ли на меня с небес ангел? Одно точно – истовости моей можно было позавидовать: уж очень мне не хотелось, чтобы злые духи или люди – это неважно, – именно злые (это слово я уже хорошо знал) не прошли в родной дом.
Помнится, что день стоял неяркий, пасмурный. Переполняло ли меня ощущение причастности к чему-то великому и тайному, известному лишь моей душе, я не знаю. Помню, что я впервые почувствовал себя защитником мамы, отца и всех родных. Маленький мальчик, рисующий кресты на снегу под хмурым низким небом в заснеженном саду с высокими глухими заборами. Картина казалась дикой в своей неестественности, заброшенности и отрешённости от мира, что шумел вокруг меня. Мира, который украдёт у меня спустя годы детскую чистоту и светлую, пропитанную искренней верой наивность, сделает меня жёстче, суше, официальнее. Жизнь часто похожа на облака даже внешне. Плывёт над головой лёгкая тучка, похожая на женское красивое лицо. Ветерок мало-помалу размывает его прекрасные черты: нос утолщается, губы растягиваются, дева дурнеет, дурнеет, а потом и вовсе расплывается без следа…
Мама пребывала в вечных хозяйственных делах и заботах о нас, пятерых детях, о муже, о свёкре и свекрови. Она топила русскую печь и готовила еду, кормила скотину, доила корову, стирала руками постельное бельё, наши многочисленные штаны и подштанники, рубахи и майки. Мыла полы в доме, а перед праздниками и в сенях, и в чуланах. Перед Пасхой она мыла крашенные маслом стены и потолки, перетирала всё, на что могла сесть пыль. Залезала рукой в самые удалённые углы, где паук мог сплести свою прочную и плохо заметную паутину. Мама полола огород: две грядки с луком, две грядки с огурцами и клубникой, одну – с чесноком и одну с морковью. Она следила за курами, чтобы те не клохтали, купала в бочке с водой непослушных, и вместе с клушкой выводила цыплят. Когда с нами жили старшие её дочери, они всячески помогали ей, но, оставшись без них, разбросанных по Союзу молодых специалистов, она тянула эту хозяйственную ношу одна-одинёшенька. Отец копал по весне огород, чистил хлев, разбрасывал навоз и подметал двор, носил с нами – Валеркой и мной – воду из водоразборной колонки.
Труд не старил нашу маму, только пальцы рук от многолетней дойки к старости скрутила подагра. К 26 годам у неё уже было трое детей, но она, по словам всех очевидцев, выглядела девчонкой. Мама со смехом рассказывала, как однажды ехала перед войной в трамвае, в том старом трамвае с деревянными сидениями, стоящими друг против друга. Как лицом к ней сел молодой мужик и долго смотрел на неё, изучая миловидное лицо с озорным от курносости носом, алые нетолстые губы, мягкий овал лица, обрамлённый чёрными как смоль волосами. Смотрел-смотрел, и стал вдруг сжимать её ноги коленями, с намёком заглядывая в глаза. «Не нахальничай!» – строго сказала мама. «Пойдём погуляем», – предложил парень. «Ты в своём уме? У меня трое детей!» Парень покраснел, тотчас встал и вышел из трамвая. Она могла защитить себя простыми словами, сказанными негромко и с предельной ясностью, доходящей до самого тупого.
Мама никогда не воспитывала нас общепринятым, нотационным способом. Никаких нравоучений я никогда не слышал от неё, – кажется, что она их не знала. То, что требовалось до нас донести, она демонстрировала показом или рассказом. Ненавязчиво, мягко и устало. Лишь после смерти её я узнал, откуда это раздумчиво-философское выражение маминых глаз. От больного сердца. На Гребешке к маме часто забегала участковый врач, чтобы послушать её сердце. Да, вот так: без вызова, без просьб, а просто по велению долга приходила врач. Какое-то редкое заболевание. После переезда на новое место к маме уже никто из врачей не ходил. Она не знала дорогу в поликлинику, и мы забыли, что у мамы больное сердце.
Часто она ссылалась на Святое Писание, но как мило она это делала! Схватишь, бывало, после сна что-нибудь из съестного, она заметит (как она всё успевала?) и скажет тихо, но не елейным голоском, словно набожная монахиня или слепая нищая, а уверенно, как умудрённый знаниями человек: «Нельзя греховными, не омытыми руками брать еду. Она – от Бога».
Кусок тут же застрянет в горле, и я, чтобы исправиться, стремглав бежал к рукомойнику и споласкивал руки водой, а потом умывался, вспоминая ещё одно наставление из Маминого Писания: «Прежде, чем сморкаться, умой руки и лицо». Сморкнуться же хочется сразу.
Пустяковые на первый взгляд советы. Главная сила не в них, а в устах, их вымолвивших. Это ясно становится позже, гораздо позже. Все эти наставления, порой шутливые, каким-то неведомым способом запомнились на всю жизнь, дисциплинируя нас. Подчиняться, соблюдать их было необременительно и даже приятно. Всегда легко подчиняться человеку, любящему тебя, и всем тем, кто уважает подчинённого, поднадзорного, воспитываемого.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: