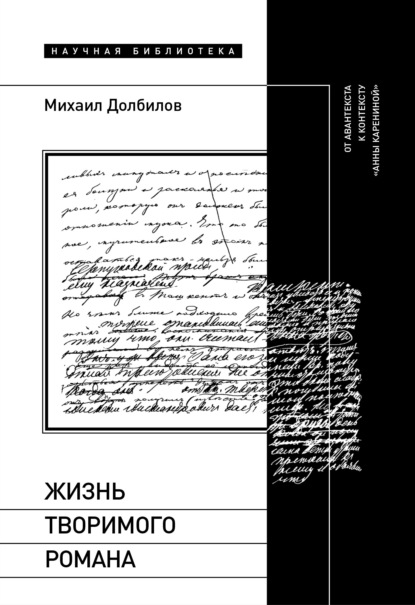По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1871 году он негласно от имени наследника курировал основание газеты «Русский мир», владельцем и издателем которой стал его сослуживец по Средней Азии, «покоритель» Ташкента генерал М. Г. Черняев, оставшийся не у дел после образования Туркестанского генерал-губернаторства[368 - О критике «Русским миром» хода дел в Средней Азии под началом преемников Черняева см.: Morrison A. The «Turkestan Generals» and Russian Military History // War in History. 2019. Vol. 26. № 2. P. 153–184.]. Главной политической идеей газеты стал особый консервативный извод национализма, противопоставлявший себя, как это виделось, космополитически ориентированной своекорыстной бюрократии, «канцеляризму» – врагу много опаснее радикалов. Примерно то же имеет в виду Серпуховской, говоря, что «[н]икаких коммунистов нет», а есть «люди интриги». В дальнейшем газета не без основания слыла отражающей взгляды окружения цесаревича (а в сущности в немалой степени формировала их). С другими националистически направленными органами печати, включая «Московские ведомости» Каткова и «Гражданин» Мещерского (с выходившим в последнем в 1873 году «Дневником писателя» Достоевского), у «Русского мира» были серьезные разногласия, а порой и вражда как идейного, так и местнического характера[369 - О содействии Воронцова-Дашкова изданию «Русского мира» см.: Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. С. 258–266; Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield. P. 125–126.].
В те же годы Воронцов-Дашков содействовал ознакомлению наследника престола с политической публицистикой еще одного пишущего генерала – Р. А. Фадеева, ранее воевавшего на Кавказе. В 1874 году цесаревичу по частям присылался трактат Фадеева «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)», где предпринималась попытка нарисовать картину грядущего возрождения русского дворянства как одновременно и привилегированного, и открытого для социальной мобильности сословия-класса[370 - Фадеев Р. Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?). СПб.: Газета «Русский мир», 1874. О месте публицистики Фадеева среди других политических течений в дворянстве: Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. С. 294–309.]. В переданном через Воронцова-Дашкова сопроводительном письме цесаревичу публицист высказывал свое убеждение в «невозможности обойтись в настоящее время в гражданском быте, как и в армии, без исторически зрелого слоя русских людей, сомкнутого политически»[371 - ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 741. Л. 6–6 об. (письмо Фадеева цесаревичу Александру от 21 марта 1874 г.).]. Слова Серпуховского о «партии власти людей независимых» выражают ту же мысль в более вольной манере и с ударением на первенство тех из этого «зрелого слоя», кто родился в «близости к солнцу».
Итак, введение ранее не планировавшихся в романе глав с Серпуховским (как не планировалось загодя большинство петербургских, «великосветских» глав Части 3 про день после скачек[372 - В этом смысле на заданный Вронским вопрос: «Отчего ты вчера не был на скачках?» (293/3:21) – Серпуховской в некоем автономном пространстве персонажей мог бы ответить: «Вчера меня еще не было в романе, и даже не намечалось». Этим «вчера» автор АК занимался много раньше: сцены скачек были дописаны и напечатаны примерно за девять месяцев до создания глав с Серпуховским, в марте 1875 года. См. подробнее о генезисе Части 3 АК в гл. 3 наст. изд.]) выглядит совсем не случайным именно в 1875 году, когда тяготевшая к наследнику военно-аристократическая котерия укрепила – вместе с ним самим – свои позиции в гвардии. В тот период в соответствующей среде, от которой Толстой вовсе не был наглухо изолирован, о Воронцове-Дашкове и его короткости с цесаревичем Александром говорили много и часто. Он действительно был, как и Серпуховской, «поднимающейся звезд[ой] первой величины» (291/3:20), звездой еще не в зените, но уже мерцающей светом будущего царствования. И это был такой человек наследника трона, какой легко становится бельмом на глазу у приближенных стареющего монарха-отца. Несколько позднее, в начале Русско-турецкой войны 1877 года, 59-летний министр двора граф А. В. Адлерберг, давний наперсник Александра II (он мог бы видеть в 40-летнем генерале при цесаревиче самого себя четверть века назад), в письмах императрице без сочувствия отзывался о Воронцове-Дашкове, как раз тогда впервые в жизни угодившем в большую служебную передрягу (что притормозит его карьеру на несколько лет, до воцарения его императора). Адлерберг комментировал это ремарками, что «слишком быстрая карьера вместе с присущим ему интриганством вскружила ему голову» и что, к сожалению, «всем известны слабость Великого Князя [цесаревича Александра. – М. Д.] к Воронцову (l’engouement du Grand-Duc pour Worontzow) и влияние сего последнего на Него»[373 - ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 3252. Л. 236–237, 238–239 (письмо А. В. Адлерберга императрице Марии от 4 августа 1877 г.; ориг. на фр.).].
В представленном читательской аудитории в 1876 году толстовском Серпуховском (а точнее, даже Серпуховском-Машкове, как он, вопреки камуфлирующей правке, сделанной перед самой публикацией, все-таки дважды именовался в журнальном тексте[374 - См. примеч. 1 на с. 179.]) содержался, в сущности, прогноз политических амбиций Воронцова-Дашкова. Откровенно выражаемое Серпуховским желание обрести власть, дабы все не пошло «к собакам», и деловитое, хотя и по-своему деликатное, обращение к Вронскому: «Такие люди, как ты, нужны» – созвучны не только культивировавшемуся в кружке цесаревича дискурсу «русской» прямоты (даже если «собаки» отдают галлицизмом), но и индивидуальному стилю самовыражения Воронцова-Дашкова. Так, один из его советов цесаревичу насчет надежных людей сопровождался рассуждением:
[Д]ержусь того мнения, что следует человечество вообще делить на две категории. Первая это собственно люди; вторая это лимоны. <…> [Из последних следует] выжимать сок, выжимать его беспощадно, после чего сухая корка, разукрашенная всеми условными знаками почета, ставится на видное место, в какую-нибудь приемную комнату для назидания и подражания молодым лимонам[375 - ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 741. Л. 66–66 об. (письмо Воронцова-Дашкова цесаревичу Александру от 29 декабря [1877 г.]).].
Любопытно, что подчеркнутую склонность к доходчивым уподоблениям питает и толстовский молодой генерал. Вронский, отмечающий про себя его необычный для строевого военного «дар слова», выслушивает от него – в варианте автографа – столь же натуралистичное, что и воронцовские «лимоны», сравнение невыгодного служебного назначения с «вонючими устрицами»[376 - Р62: 19.].
В январе 1876 года, когда порция романа с главами о Вронском и Серпуховском увидела свет, в России уже складывалось общественное мнение в пользу прямой поддержки подвластных Османской империи славян, восстания которых ширились тогда на Балканах[377 - См. гл. 4 наст. изд.]. Кружок цесаревича Александра был одним из очагов панславизма в высшем обществе. Позднее в том же году Воронцов-Дашков, с его связями начальника штаба Гвардейского корпуса, негласно помогал М. Г. Черняеву, фактически возглавившему сербскую армию в опрометчиво объявленной Порте войне, набирать русских офицеров-добровольцев для отправки в Сербию, несмотря на недовольство императора этим движением и лично Черняевым[378 - Кривенко В. С. Памяти графа И. И. Воронцова-Дашкова // Он же. В Министерстве двора. Воспоминания. С. 258. Имеется целый ряд неопубликованных дневниковых и эпистолярных свидетельств о негласной координации Воронцовым-Дашковым сбора средств и закупки оружия для сербской армии и воюющих в ней русских добровольцев.].
Убежденность, диктуемая политическими по сути амбициями, в своем призвании блеснуть в большой войне, которую Россия в 1877 году наконец открыто объявила Османской империи, вовлекла Воронцова-Дашкова в межгрупповые склоки в генералитете. Его резкие высказывания о некомпетентности главнокомандования получили резонанс и были поняты кое-кем как намеренный сигнал о несогласии самого цесаревича с представителями старшего поколения династии[379 - Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield. P. 126–132.]. (Вспомним: Серпуховской удивляет Вронского тем, что «уже дума[ет] бороться с властью и име[ет] в этом мире уже свои симпатии и антипатии <…>» [295/3:21].) Все это стоило Воронцову-Дашкову высокой должности в гвардии и доверия императора. «Я в этом годе сильно изменился, и многое мне послужило хорошим уроком, честолюбие во мне убили, осталось только желание быть посильно полезным тем, кого люблю <…>», – писал он в 1878 году цесаревичу из своего имения в Тамбовской губернии[380 - ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 741. Л. 76–76 об. (письмо Воронцова-Дашкова цесаревичу Александру от 11 октября 1878 г.).]. Вкус к политике, однако, его не покинул: в последние, сумеречные[381 - Именно таким было восприятие Воронцовым-Дашковым этого времени. См. черновик его, как кажется, неотправленного письма цесаревичу от 26 апреля 1879 года: «Душно
; как перед грозой; что-то давит
на сердце;
как перед каким-то ожиданием бедствия, от которого избавиться нет уже сил и возможности. Тянет высказаться Вам: это единственное наркотическое средство, на меня действующее» (ОР РГБ. Ф. 58/II. К. 129. Ед. хр. 7. Л. 36).], годы царствования Александра II он сотрудничал с Р. А. Фадеевым, готовившим тогда очередной программный трактат – «Письма о современном состоянии России». Свою соавторскую лепту в «Письма» внес и Воронцов-Дашков[382 - Фадеев Р. А. Письма о современном состоянии России. 11 апреля 1879 – 6 апреля 1880. 4?е изд. СПб., 1882. Официально так и не заявленное, соавторство Воронцова-Дашкова устанавливается, в частности, по письму к нему от самого Фадеева: ОР РГБ. Ф. 58/II. К. 51. Ед. хр. 3. Л. 15–16 об. (письмо от 7 июля [1881]).]. Легко вообразить подобную траекторию и для разочаровавшегося Серпуховского, у которого ведь тоже должно быть большое и благоустроенное имение (как Воздвиженское Вронского), где можно было бы переждать паузу в карьере. Служебное восхождение Воронцова-Дашкова возобновилось после воцарения Александра III, когда он был назначен министром двора, сменив в этой должности своего недоброжелателя Адлерберга. Должность была важной, деятельность – разнообразной, влияние – немалым, но на то же исключительное положение при императоре, какое он имел при цесаревиче, граф Илларион Иванович не мог, а возможно и не хотел претендовать.
Другим историческим лицом, отсылка к которому различима в фигуре Серпуховского, является не кто иной, как упоминавшийся выше князь Александр Иванович Барятинский, знаменитый победитель Шамиля (и покровитель Воронцова-Дашкова на раннем этапе его карьеры). Эта отсылка, впрочем, едва ли задумывалась как дешифруемая для «обычного» читателя, будучи скорее аллюзией внутри мира толстовского творчества, актуализацией устойчивого мотива. Выражаясь иначе, это был дальний план исторической, а отчасти и биографической референции, связанной с Серпуховским.
Вершиной карьеры Барятинского было командование Отдельным Кавказским корпусом и управление всем краем из Тифлиса в качестве наместника Кавказского в 1856–1862 годах. Заметим, что он был потомком удельного княжеского рода (ведшего начало, в свою очередь, от князей Черниговских), о чем напоминала звучная фамилия, ничуть не хуже Серпуховского и Белевского[383 - Гордость древним происхождением была визитной карточной Барятинского. Согласно одному свидетельству, он был почти оскорблен намерением Александра II «осчастливить» его дарованием формально высшего, но не имевшего в России давних исторических корней титула светлейшего князя, который был до этого благодарно принят его преемником в Тифлисе графом М. С. Воронцовым (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 143).]. Метафора удельного княжества, к слову, годится для описания тифлисского полновластия Барятинского. А недолгое время в начале 1860?х разные деятели и наблюдатели видели в нем потенциального дуайена «аристократической партии» – этакого клуба тех недовольных условиями крестьянской реформы 19 февраля 1861 года крупных землевладельцев, кто желал введения хотя бы начатков политического представительства для дворянства[384 - Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. С. 104–108. Сатирический очерк этой среды (преувеличивающий ее политическую реакционность) еще в конце 1860?х был дан в «Дыме» Тургенева, где изысканные до женоподобия молодые генералы в 1862 году (время действия романа) по-фрондерски выражают недовольство как уже состоявшейся крестьянской реформой, так и грядущими земской и судебной: «Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать – с покорностью указывать (генерал протянул палец), – указывать перстом гражданина на бездну, куда всё стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостию: „Воротитесь, воротитесь назад…“» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. С. 294–304, цитата – с. 300 [«Дым», гл. X]). И во внешности, и в политических высказываниях Серпуховского есть кое-какие черты сходства с тургеневскими молодыми генералами, хотя аналогичной сатирической нагрузки его образ не несет.]. В его намерения, однако, эта роль не входила, хотя горячим сторонником реформ 1860?х он действительно совсем не был.
Толстому довелось лично познакомиться с Барятинским в 1851 году, когда тот, 36-летний генерал-майор, «поднимающаяся звезда первой величины»[385 - Как раз в период службы Толстого на линии Барятинский получил следующий чин генерал-лейтенанта и вскоре был пожалован в генерал-адъютанты (Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета. С. 53).], друг тогдашнего цесаревича, будущего Александра II, начальствовал над левым (восточным) флангом Кавказской линии, а 23-летний тульский помещик без чина и звания приехал туда волонтером. После участия в набеге на чеченский аул, давшего Толстому материал для одноименного рассказа, лично командовавший этой вылазкой Барятинский, вероятно с оглядкой на хорошее родство молодого провинциала, побудил его поступить на службу и вроде бы обещал ему протекцию в скором производстве в офицеры[386 - Бурнашева Н. И. Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Художественные произведения. Т. 2. М.: Наука, 2002. С. 303–304, 363; Толстая С. А. Дневники С. А. Толстой. М., 1978. Т. 2. С. 102–103 (запись от 26 мая 1904 г.).]. Содействия, однако, не последовало, и Толстой, несмотря на боевые заслуги, два года оставался в юнкерах. Он тяжело переживал индифферентность к себе со стороны того, в ком многие современники видели совершенное воплощение аристократизма – принципа и стиля, притягательных для юного Толстого. По словам В. Б. Шкловского, полнее других биографов проанализировавшего социокультурную составляющую этой встречи в жизни писателя,
Барятинский свой, или, вернее, должен быть своим, с ним связаны мечты о том общественном положении, стремление к которому долго томило Толстого <…> / Барятинский, из?за которого он себя презирает, в то же время недостижим для Толстого того времени[387 - Шкловский В. Б. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 1963. С. 153. (Серия ЖЗЛ).].
Мне представляется, что, независимо от позднейших радикальных перемен в воззрениях Толстого на службу, чины, титулы, социальный престиж, Барятинский остался для него символически заряженной реминисценцией, синонимом власти, которую над умом и душой имеет зрелище чужого блистательного успеха. Более или менее отчетливо соотнесенный с реальным Барятинским персонаж – баловень судьбы в генеральских эполетах и в ранге еще высшем, чем просто генеральский, в неофициальной иерархии, властный, самоуверенный, лощеный, располагающий к себе красотой и обходительностью, наконец небезответно женолюбивый – мелькает на страницах нескольких толстовских произведений, относящихся к самым разным периодам его творчества.
В 1853 году молодой автор тревожился, не узнает ли Барятинский себя в генерале из «Набега», изображенном, по меткому определению Шкловского, «иронично и завистливо»[388 - Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 2. С. 16, 304; Шкловский В. Б. Лев Толстой. С. 152.]. В датируемых предположительно 1870-ми годами набросках незавершенного (точнее, едва начатого) сочинения – повести или романа – «Князь Федор Щетинин», сюжетом которого, как кажется, должно было стать столкновение начальника и подчиненного из?за женщины в обрамлении исторических событий, того же облика герой в одном варианте зовется князем Федором Мещериновым, в другом – князем Михайлой Острожским[389 - См. замечания о Барятинском как «прообразе» персонажа в комментариях к новейшему изданию: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 9. С. 424–428 (автор комм. – А. В. Гулин).]. Подобно Серпуховскому и Белевскому, эти топонимические фамилии в сочетании с княжеским титулом имеют ауру старинности, ассоциируясь с существовавшими когда-то небольшими по меркам царства, но обособленными владениями – чем-то средним между государством и вотчиной (при том, что исторические князья Острожские были руськими (русинскими) магнатами в Великом княжестве Литовском и затем в Речи Посполитой). Мещеринову «было 34 года, а он уж был генерал-лейтенант, генерал-адъютант и командующий войсками, из некоторого приличия только перед старыми полными генералами не названный главнокомандующим» (и Барятинский, и Воронцов-Дашков стали генерал-адъютантами в 38 лет); и по-разному судящие о нем люди «должны были соглашаться в том, что человек этот независимо от своих свойств <…> имел еще какую-то помимочную силу, очевидно сообщавшуюся всем людям, приходившим с ним в сношение». Вариант с Острожским дополнительно высвечивает коннотации средневековых княжеских фамилий: «Острожский, молодой красавец, сильный по связям, холостяк, богач, независимый начальник края, жил царем в маленьком и прелестном южном городке, окружив себя блестящей военной самовластной роскошью <…>»[390 - Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 9. С. 146–156, цитаты – с. 146, 149; курсив мой.].
В написанной еще десятилетия спустя повести «Хаджи-Мурат» Барятинский появляется под собственным именем в сцене военной пирушки по случаю его назначения на пост командующего флангом – в обстановке, похожей на ту, в которой Вронский встречается с Серпуховским[391 - Юб. Т. 35. С. 96–99 («Хаджи-Мурат», гл. XXI). В одной из черновых рукописей повести имеется зарисовка Барятинского-царедворца, рассказывающего сомнительную историю о храбрости наследника престола (Там же. С. 524 [отрывок № 132]).].
Серпуховской без натяжки встраивается в этот ряд. К уже отмеченным выше его характеристикам надо добавить и такую, как внешность. Эта внешность словно нарочно создана для демонстрации успеха, а в действительности от успеха неотделима. Впервые мы видим его глазами Вронского, и этот цепкий взгляд, прочитывающий признаки высокого статуса в мелочах, как можно догадаться, телодвижений и мимики, не столь уж отличен от «ироничного и завистливого» взгляда, каким рассказчик в «Набеге» смотрит на генерала, опознавая в нем человека, «который себе очень хорошо знает высокую цену»[392 - Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 2. С. 16.]:
Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то тихое, постоянное сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании этого успеха всеми. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском (293/3:21).
Красота Барятинского, особенно в молодости (а Толстой видел его хотя и давно отпустившим взрослящие бакенбарды, но еще не начавшим болеть и заметно стареть), была предметом восхищения современников. Вот как вспоминал свое первое впечатление от него В. А. Инсарский, в начале 1840?х петербургский чиновник, вхожий в высшее общество, а затем – управляющий огромным майоратом Барятинского в Курской губернии и его же сотрудник на Кавказе:
Молодой человек <…> беспримерно стройный, красавец собой, с голубыми глазами, роскошными белокурыми вьющимися волосами, он резко отличался от всех других, составлявших свиту наследника, и обращал на себя всеобщее внимание. Манеры его отличались простотой и изяществом[393 - Инсарский В. А. Записки Василия Антоновича Инсарского: В 6 ч. Ч. 1. СПб., 1898. С. 81.].
К середине 1870?х годов Барятинский утратил не только изрядную долю прежнего обаяния, но и почти все реальное политическое влияние, которого было не восполнить пышным букетом почестей, включая чин генерал-фельдмаршала, на тот момент никому более из здравствовавших российских военачальников не принадлежавший. У его преждевременного обращения в «бывшего» имелась, кроме действительного ухудшения здоровья, причина, упомянуть которую особенно уместно в разговоре о подтекстах АК. Такова была цена за эскападу с увозом за границу любовницы, жены собственного адъютанта, за «правильно» организованный в Синоде бракоразводный процесс, на котором муж фиктивно выступал виновной стороной, и за последующее восстановление репутации нововенчанной жены Барятинского принятием ее ко двору[394 - См. об этой эскападе: Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860–1862 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 1999. С. 124. Княгиня Е. Д. Барятинская, урожденная княжна Орбелиани, в первом браке Давыдова, была пожалована орденом Св. Екатерины 2?й степени, а затем стала статс-дамой (Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета. С. 52).]. И если мой тезис о том, что в Серпуховском заключалась аллюзия и к Барятинскому, верен, то можно сказать, что аллюзия в определенный момент как бы замыкается на самое себя: предостерегая Вронского, молодой генерал напоминает ему об их знакомых, которые «погубили свои карьеры из?за женщин», и добавляет: «Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то что тащить fardeau [груз. – фр.] руками, а вырывать его у другого» (296, 297/3:21). С учетом этого еще пикантнее звучит двусмысленный каламбур Стивы Облонского, поздравляющего себя с улаживанием развода Анны и Каренина. Этот пассаж вскоре после написания и выхода глав с Серпуховским был добавлен в одну из глав следующей, 4?й, части: «Какая разница между мною и фельдмаршалом? Фельдмаршал делает развод – и никому оттого не лучше, а я сделал развод – и троим стало лучше…» (406/4:22)[395 - Наверное, подавляющее большинство тех сегодняшних читателей АК, кто помнит эту шутку, знакомы с нею только по варианту, где вместо «фельдмаршал» читается «государь». Именно таков был исходный вариант пассажа, но Толстой сам изменил его уже в автографе, так что его современники – читатели журнального текста видели в этом месте наименование высшего военного чина, а не титул монарха (РВ. 1876. № 3. С. 311). Редакторы советского Юбилейного издания сочли правомерным возвращение к чтению нижнего слоя автографа (Гудзий Н. К. Текстологический комментарий // Юб. Т. 19. С. 502), и в такой редакции каламбур Облонского тиражировался с 1934 года и в собраниях сочинений, и в отдельных изданиях романа. В 2020 году новое академическое издание Частей 1–4 АК (по которому в настоящем исследовании цитируется текст первой половины романа) восстановило чтение журнального текста – «фельдмаршал», так что можно ожидать соответствующей коррективы и в будущих массовых изданиях книги. См. об этом же пассаже в контексте темы развода с. 391–393 наст. изд.]. «Фельдмаршалом» в значении имени собственного тогда в высшем обществе нередко звали Барятинского, и он за десять лет перед тем действительно сделал развод – не воинский церемониал, как вроде бы подразумевается каламбуром, а расторжение первого брака своей будущей жены.
И все-таки в середине 1870?х если не сам Барятинский, то его имя, а в конечном счете миф об утонченном русском аристократе, сломившем сопротивление воинственных горцев, еще значили много. Родовитость, близость ко двору, удачливость на поле брани в далеких «восточных» землях сближают Серпуховского с Барятинским. Туркестан как вновь завоеванная и продолжающая расширяться азиатская окраина империи, аналог Индии под британским владычеством привлекал к себе в 1870?х все больший интерес, отчасти замещая популярную в предшествующие десятилетия поэтику покорения Кавказа. Соединяя в себе черты деятелей, принадлежавших один к предыдущему, другой к молодому поколению имперских победителей Востока (к слову, уже достигший служебных высот Воронцов-Дашков дружил с бывшим патроном, оставшимся не у дел[396 - Письма А. И. Барятинского И. И. Воронцову-Дашкову за 1860–1870?е гг. см.: ОР РГБ. Ф. 58/II. К. 5. Ед. хр. 7.]), Серпуховской придавал зарисовке политических амбиций военной аристократии колорит колониального, конквистадорского удальства[397 - Ко внедрению мотива Средней Азии в текст романа на этапе завершения Части 3 Толстой мог быть побужден самыми последними известиями из Ташкента. Начиная с августа 1875 года в еще не полностью аннексированном Кокандском ханстве велось российское наступление на мусульманских повстанцев. В этой кампании отличился – как ратным талантом, так и жестокостью (см. подробнее: Morrison A. The Russian Conquest of Central Asia. P. 382–404) – хорошо известный в петербургском светском кругу 32-летний флигель-адъютант Михаил Дмитриевич Скобелев, как раз тогда получивший первый генеральский чин (к слову, брат эксцентричной Зинаиды Скобелевой, о чьих письмах великому князю Николаю Константиновичу ходили в те же месяцы пикантные слухи, подогретые публикацией «Романа американки в России» Х. Блэкфорд; см. примеч. 1 на с. 170). Несмотря на высокую вероятность того, что Толстой в конце 1875 года слышал о военных действиях в Коканде, не представляется убедительным высказанное Э. Г. Бабаевым предположение, что в Серпуховском отобразилась фигура Скобелева – удачливого полководца с претензией на политическую роль (Бабаев Э. Г. Комментарии. С. 489). Эта «бонапартистская» репутация закрепится за туркестанским генералом уже после прославившей его Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.].
И именно к кануну возобновления работы Толстого над Частью 3 относится любопытное и релевантное для нашего анализа эпистолярное свидетельство. В годы писания АК (за исключением первого года – 1873-го) на осень вообще выпадали полосы творческой апатии автора, выражаясь банально – ожидания вдохновения. Делясь в конце октября 1875 года с А. А. Фетом надеждой на скорое возвращение в рабочее состояние («Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. <…> Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава»), Толстой писал о пока заменяющих творчество радостях чтения: «Читал я это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о Кавк[азских] горцах, изд[анный] в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные»[398 - Юб. Т. 62. C. 209 (письмо Фету от 26 (?) октября 1875 г.). Толстой, как установлено комментаторами Юб., читал статьи А. П. Ипполитова и П. К. Услара в сборнике, изданном в Тифлисе в 1868 году.]. Толстой был неподдельно восхищен: следом идет несколько выписок из аварских и чеченских песен. Как хорошо известно толстоведам и не только им, спустя четверть века одной из этих песен, превозносящей, согласно переводу, прочность уз кровной мести, найдется применение в «Хаджи-Мурате». Здесь она поется побратимом героя Ханефи и поражает подружившегося с этими горцами русского офицера Бутлера «своим торжественно-грустным напевом», так что тот просит пересказать ее содержание, а затем еще больше отдается «поэзии особенной, энергической горской жизни», воображая себе, что «он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью»[399 - Там же. Т. 35. С. 92 («Хаджи-Мурат», гл. XX). Глубокую трактовку историком мотива насилия в горском фольклоре (мотива, в числе других легко ориентализируемого имперскими наблюдателями) см.: Бобровников В. О. Историческая память горского «хищничества» в аварской «Песне о Хочбаре» // Историческая экспертиза. 2016. № 1. С. 3–33. Благодарю Владимира Бобровникова за любезно данные дополнительные пояснения по этому сюжету.]. Судя по письму Фету, восторг, испытанный самим Толстым при первом прочтении этой подборки, был того же ориенталистского свойства, так что введенная вскоре в творимый роман фигура бравого генерала, приезжающего с далекой «туземной» окраины, могла как-то вступать во вновь актуализованную для автора симфонию мотивов войны, власти, насилия и восточной экзотики.
***
В исторической действительности середины 1870?х годов две описанные в этой главе придворные среды – или, если угодно, два магнитных поля маленьких кружков и котерий – не находились, конечно же, в прямой конфронтации друг с другом, но трения и напряженность между ними были вполне ощутимы. Тому немало свидетельств в эпистолярии, дневниках и мемуарах тех современников, кто не избегал обсуждать неформальную подоплеку династических, служебных и светских иерархий и взаимоотношений. В том же деле великого князя Николая Константиновича – характерного экземпляра золотой молодежи романовской фамилии – императрица Мария Александровна сочла уловкой объявление его помешанным и почти требовала от мужа наказать племянника как дееспособного преступника[400 - Милютин Д. А. Дневник. 1873–1875. С. 290 (цитируемые публикаторами записи в дневнике вел. кн. Константина Николаевича весной 1874 г.). См. цитату из письма императрицы от апреля 1874 года на с. 132 наст. изд.]. Ею двигало не только желание воздать по заслугам за кражу тех или иных драгоценностей – это была и принципиальная позиция в отношении вольных нравов молодых мужчин династии.
В свою очередь, старший из фигурирующих на этих страницах августейших Николаев, главнокомандующий гвардией, по отзыву С. Д. Шереметева, «не терпел женского персонала, окружавшего императрицу, и не мог без негодования говорить об Анне Федоровне Тютчевой <…>». И он, и большинство остальных великих князей «чурались <…> как лешего» другой «политической фрейлины» императрицы – А. Д. Блудовой[401 - Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 125, 122. О роли Блудовой в панславистском подъеме 1876 года в связи с темой ложной спиритуальности в АК см. с. 463–464 наст. изд.]. Одним из исключений, и весьма примечательным, был наследник Александр Александрович, находившийся в натянутых отношениях с отцом-императором: он симпатизировал фрейлинам своей матери – Блудовой, А. А. Толстой – и другим панславистам. Понятно, что вот он, в противоположность своему дяде Николаю, «в Красносельский театр <…> езжал неохотно», ибо «[е]ще свежи были предания о Числовой, процветавшей на этой сцене, где хозяином был великий князь Николай Николаевич с его свитой, особенно претившей цесаревичу»[402 - Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 442.]. Такими нюансами публичной саморепрезентации, поведения, вкусов – конечно же, вкупе с действием других факторов – структурировались межличностные симпатии и тяготения (или подчеркивалось их отсутствие) и в самом ядре монархии, и в облегавшей его аристократической среде.
В большом свете, изображенном в АК, происходят похожие вещи. В одном из вариантов «крокетных» глав героиня едет к нуворишам Иленам, презрев важное неписаное правило:
При прежних условиях жизни Анна непременно отказалась бы <…> потому, что у Анны было то тонкое светское чутье, которое указывало ей, что при ее высоком положении в свете сближение с Иленами отчасти роняло ее, снимало с нее пушок – duvet – исключительности того круга, к которому она принадлежала[403 - ЧРВ. С. 281 (Р54).].
С учетом изложенного выше я бы решился утверждать, что эту тонкую, уязвимую «исключительность», подчеркнутую образным употреблением французского слова (словно бы это пушок на персике – фрукте, который в смежной главе съедает без спросу ее сын Сережа[404 - ЧРВ. С. 286 (Р56). Эта деталь перешла в ОТ (275/3:15).]), надо понимать вполне определенно – как принадлежность к «интимному кружку» императрицы, где культивировался рафинированный, ригористический тон. В ОТ, в согласии с толстовской техникой приглушения и драпировки слишком прямо выраженного в ранних редакциях, тем же смыслом отмечено не столь самоочевидно рискованное, но все-таки дающее в конечном счете негативный эффект сближение Анны с Бетси.
Разумеется, Толстой не задавался целью реконструировать в своем романе механику придворно-династической политики. Проанализированные выше, а также смежные с ними эпизоды и реминисценции должны были работать как прерывистые серии сигналов, как дуновения дразнящей атмосферы, различимые для осведомленных, обостряющие восприятие любовных и экзистенциальных драм романа. В ОТ Анна и Вронский скандализируют высшее общество не только тем, что любят друг друга «открыто» (рядом с ними есть более открытые супружеские измены), или тем, что соединяются до получения Анной развода и при малых шансах его добиться, но и нарушением своеобычных неписаных запретов. Одна из самых непростительных, по тогдашним меркам, трансгрессий, совершаемых ими, относится к четко опознаваемой, весьма замкнутой среде, взятой в определенное историческое время. Флигель-адъютант императора, молодой аристократ из высшей гвардейско-великокняжеской касты, где процветала маскулинная либертинская субкультура, «похищает» молодую замужнюю даму, близкую по карьерным связям мужа и личным знакомствам к избранному кружку императрицы Марии Александровны. Это случается именно тогда, когда адюльтер и вторая семья самого императора не просто становятся притчей во языцех, но и непреднамеренно способствуют формированию виктимизированного образа императрицы среди ее ближайшего окружения. Под таким углом зрения эскапада Анны и Вронского оказывается вопиющей бестактностью: представляя себе реальность АК за рамками повествования, «за кадром» – или ее проекцию на реальность фактуальную, – мы можем догадываться, что происшедшее оскорбляет императрицу и растравляет чувство вины императора. Все это, как мы еще увидим ниже, усугубляется одновременностью вызывающего двойного отказа: Вронского – от важного назначения и дальнейшей блестящей карьеры, а Анны – от положения в свете вообще и в своей обособленной высшей «секции» (толстовское слово) в частности.
Этот исторический контекст сказался на соотношении между динамикой создания романа и внутренней архитектоникой окончательного текста, чему и посвящены две следующие главы.
Глава 2
СТАТЬ ЛИ АННЕ ЗАКОННОЙ ЖЕНОЙ ЛЮБОВНИКА?
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ, ТЕЛЕОЛОГИЯ ЗАМЫСЛА И ИЗМЕНЯЕМОСТЬ СЮЖЕТА В ТВОРИМОМ РОМАНЕ
Процесс создания АК не оставлял главной героине шансов избежать самоубийства в финале романа ни в одной из его черновых редакций. Уже в самом раннем конспективном наброске ключевых глав, относящемся к весне 1873 года, о котором автор, еще блаженно не предвидя предстоящих четырех лет трудов, писал Н. Н. Страхову: «[З]авязалось так красиво и круто, что вышел роман <…> очень живой, горячий и законченный <…>»[405 - Толстой–Страхов. С. 101 (неотправленное письмо Толстого от 25 марта 1873 г.).] – уже на этой стадии зачина гибель Татьяны Ставрович, вскоре переименованной в Анну Каренину, выглядит предрешенной волею Толстого[406 - Как ясно из цитируемого ниже пассажа, совсем недолгое колебание автора касалось в этом эскизе лишь способа самоубийства, и от принятого тогда решения не отступает ни одна из дальнейших редакций: «Она ушла. Через день нашли
под рельсами тело» (ЧРВ. С. 46).]. Позднее среди взыскательной публики нашлась и такая читательница, которая пыталась предостеречь автора от чересчур тривиальной, по ее мнению, развязки. «[У]моляю вас, дайте нам поскорее продолжение и конец. Вы не можете представить, как все заинтересованы этим романом. <…> Здесь прошел слух, что Анна убьется на рельсах железной дороги. Этому я не хочу верить. C’est un pur commеrage [Это чистой воды сплетня. – фр.]. Вы не способны на такую пошлость», – писала Толстому в марте 1876 года графиня А. А. Толстая, вместе с другими приближенными императрицы и с нею самой, а может быть и императором ожидавшая новых номеров «Русского вестника» с очередными выпусками романа[407 - ЛНТ–ААТ. С. 333 (письмо от 28 марта 1876 г.). О причастности этого письма к генезису АК в 1876 году см. подробнее на с. 397–398 наст. изд. О чтении в кружке императрицы именно того выпуска АК, который появился вскоре после сообщения Толстой автору о нетерпеливом ожидании со стороны «всех», см. в письме самой императрицы мужу от 4–5 мая 1876 г.: ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 794. Л. 7 об.]. На тот момент, однако, этому замыслу было уже не менее трех лет; в авантексте романа героиня погибла давно, и даже – учитывая редакции, о которых речь пойдет далее, – не один раз.
Если ужасное происшествие на станции Обираловка Московско-Нижегородской железной дороги составляло в значительной мере телеологию генезиса АК, то развод Анны и Алексея Александровича, напротив, выступал в этом генезисе важным переменным элементом сюжета. Вообще, получение или неполучение Анной развода в сменявших одна другую черновых редакциях не отражалось на неотвратимости ее гибели. Как в романе завершенном, так и на определенных этапах его сотворения статус законно разведшейся и сочетавшейся вторым браком великосветской дамы не должен был и не мог спасти Анну от ее внутреннего ада. Однако те или иные решения проблемы развода в сюжете, которые Толстой тестировал в разные периоды работы над текстом, раз за разом изменяя их, вбирались в исторически чувствительную ткань произведения, и для ряда тем, мотивов, сюжетных ходов оппозиция состоявшегося и несостоявшегося развода героини значила немало.
В этой главе мы начнем, а в следующей продолжим и завершим рассмотрение того, как в генезисе АК происходил выбор между двумя альтернативными сюжетными конструкциями – той, где законный развод между Анной и Карениным все-таки совершается, и той (победившей), где развод предстает лишь возможностью, причем все менее осуществимой. Хотя в ракурсе бытийного, повторюсь, речь идет о двух траекториях следования в один и тот же пункт назначения, весьма длительное сосуществование этих модальностей повествования играло смыслообразующую роль для политически и социально злободневной топики рождавшегося романа. Весьма примечательно уже то, сколь небыстро, неким возвратно-поступательным манером Толстой приходит к очень существенной для мировоззрения романа сцене в финале Части 4 – Анна отказывается от развода, ставшего технически достижимым благодаря порыву всепрощающего великодушия ее мужа.
1. Развод и новый брак Анны, или «Стальные стали формы жизни»
Замысел, по которому главная героиня становится законной – юридически законной – женой своего любовника, ярко запечатлелся в характерном варианте заглавия книги – «Два брака». На рубеже 1873 и 1874 годов, во второй фазе интенсивной работы над романом, он ненадолго заменил собою в одной из рукописей уже придуманное и опробованное «Анна Каренина», чтобы затем, на сей раз окончательно, уступить тому место[408 - ОпР. С. 196 (о рукописях 17 и 18); Жданов В. А. Творческая история «Анны Карениной»: Материалы и наблюдения. М., 1957. С 22–23. Толстой правит своей рукой «Анна Каренина» на «Два брака» в рукописи 17, но уже в копии ее верхнего слоя, содержащейся в рукописи 18, авторская правка восстанавливает первое заглавие.]. Очевидно, что слово «брак» употребляется здесь в смысле не уже существующей семьи, а бракосочетания, вновь заключаемого супружеского союза. Иначе говоря, здесь имеются в виду, во-первых, женитьба Левина (в ранних редакциях – Ордынцева) и Кити и, во-вторых, выход Анны замуж за любовника (в ранних редакциях именуемого Балашевым, Гагиным, Удашевым) – а не ее девятилетнее супружество с Карениным. Вот как отразилось проектируемое Толстым содержание одной из частей романа в плане, составленном весной 1873 года:
4-я часть.
<1 гл. Брак Орд[ынцева] с Кити. Ст[епан] Арк[адьич] пос[аженый] отец.>
2 гл. Ст[епан] Арк[адьич] устроивает развод.
<…>
4 гл. Брак Уд[ашева] с Анной[409 - ЧРВ. С. 8; ОпР. С. 188–189 (план 3; по устаревшей систематике Юб. – 4).].
Еще одна часть, обозначенная в этом плане тоже как 4-я, но явно относящаяся к следующему звену фабулы (и в основном соответствующая Части 6 ОТ), выдерживает ту же линию на синхронизацию и своеобразную симметрию важных событий в жизни двух пар:
IV часть.
<6 гл.> Как жил Орд[ынцев].