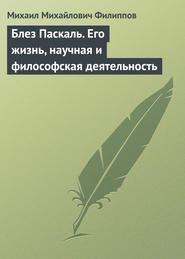По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иммануил Кант. Его жизнь и философская деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, да, конечно… – сказал Кант, и по тону его собеседница поняла, что Кант оценил ее по достоинству.
В данном случае он был, вероятно, прав; но вообще нельзя не заметить, что Кант отстал в этом отношении от Лейбница, необычайно охотно беседовавшего с образованными женщинами о философских предметах, и последний едва ли проиграл от своих бесед с королевой Софией-Шарлоттой. К сожалению, Кант не встретил в своем кенигсбергском захолустье ни одной подобной женщины; а что он был способен к увлечению женским умом и характером, доказывают его чрезвычайно сердечные отношения к графине Кайзерлинг и ее дочери, впоследствии по мужу фон дер Рекке. Эта последняя пишет о Канте:
«Я не знаю его по его сочинениям: его метафизические умозрения стоят за пределами моего понимания. Но я обязана этому знаменитому человеку многими прекрасными умными беседами. Ежедневно приходилось мне разговаривать с этим другом нашего дома, который был чрезвычайно любезным и приятным собеседником… Часто он беседовал так мило, что никогда нельзя было бы заподозрить в нем глубокого отвлеченного мыслителя, совершившего подобный переворот в философии. Беседуя в обществе, он умел нередко облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму; каждое свое мнение он излагал необычайно ясно. Он увлекательно острил, и беседа его была часто приправлена легкой сатирой, причем он умел острить, сохраняя невозмутимый вид и полную непринужденность».
По этому показанию можно судить, что не всех женщин Кант считал кухарками или же синими чулками и что не его вина, если в кенигсбергском обществе было мало женщин, подобных графине Кайзерлинг и Элизе фон Рекке. Это упускают из виду многие, слишком строго осуждающие Канта за его взгляды на женщин и забывающие, что этот философ делал выводы из окружавшей его действительности. Для дальнейшей характеристики взглядов Канта на женщину необходимо привести его суждение о взглядах Руссо. Известно, что пламенный защитник прав природы и человека отнесся несколько свысока к женщине, которая для него, как и для большинства современных швейцарцев и французов, была скорее цветком, чем серьезной подругою жизни. Нельзя сказать, чтобы Кант одобрил этот взгляд. Любезничанье с женщинами, – писал Кант в своем сочинении о прекрасном и возвышенном, – есть специальность французов и основа их искусства жить. Обыкновенно любезничают только с детьми. Руссо сказал, что женщина никогда не станет ничем большим, чем взрослым ребенком. «Это дерзкое выражение, – говорит Кант, – и я ни за какую цену не решился бы высказать его; но, чтобы понять слова Руссо, надо помнить, что они написаны во Франции». Кант утверждает, что женщины должны действовать на мужчин облагораживающим образом; но во Франции сами женщины предпочитают любезничанье труду. «Жаль, – говорит Кант, – что лилии не прядут».[1 - Тот из немецких поэтов, который наиболее подчинился влиянию философии Канта и открыто признавал это влияние – мы говорим о Шиллере – как известно, более всех способствовал серьезному отношению поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудных женских типов, составляющих главную прелесть драматических произведений Шиллера.] Кант не был женат и долгое время полагали, что он никогда не был влюблен. Поверить этому было бы трудно даже в том случае, если бы мы не имели положительного свидетельства одного из самых достоверных биографов Канта в пользу противного. Биограф этот не берется ничего сказать о молодости Канта, ограничиваясь замечанием: «Судя по темпераменту, он, вероятно, был влюблен»; зато категорично утверждает, что в зрелых летах Кант был влюблен и даже два раза. «Я не называю имен, – говорит этот биограф, – потому что для кого это важно?» Легко допустить, что и в молодости Кант увлекался, но, как человек чрезвычайно добросовестный, не решался составить семьи, пока сам находился в материальной зависимости от родственников. Что касается вопроса, почему Кант и впоследствии остался холостяком, это объясняется самым удовлетворительным образом. В ранней молодости Кант был очень застенчив с женщинами; с летами это прошло в обыденных случаях, но в вопросе настолько щекотливом, каково объяснение в любви, он остался крайне нерешительным, и, по словам биографа, одна из возлюбленных Канта уехала, так и не узнав о его страсти, а другая, видя его колебания и нерешительность, предпочла более энергичного и смелого соискателя. Постепенно Кант втянулся в одинокую жизнь холостяка, и на старости у него образовалось совершенно рассудочное, можно сказать, даже чересчур прозаичное отношение к браку. Задолго до Шопенгауэра (который и в этом, как во многих других отношениях, утрировал идеи Канта) Кант провозгласил, что истинной подоплекой всякой любви к женщине является половое влечение. В трактате «О прекрасном и возвышенном» мы читаем буквально:
«Все очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе является распространенным половым влечением. Природа преследует свою великую цель, и все тонкости, которые сюда присоединяются, и на первый взгляд, весьма далеки от полового инстинкта, в конце концов являются лишь его подкрашиванием и вся их прелесть заимствована из того же источника».
Но Кант далек от выводов, сделанных из этого впоследствии Шопенгауэром. Хотя половой инстинкт – чувство весьма грубое, но «презирать его», по словам Канта, нет ни малейшего основания, потому что этот инстинкт делает возможным самое удобное и правильное охранение порядка природы. Философ нимало не отрицает и того, что высшие формы любви отличаются от низших, хотя и имеют общий с ними источник. Любовь, основанная только на половом влечении, по его словам, легко вырождается в разнузданность и распущенность, потому что «огонь, зажженный в нас одной особой, весьма легко может быть погашен другою».
Что сам Кант был далеко не равнодушен к женской красоте, в этом убеждают многие показания. Помимо всякой любви, он охотно видел красивые женские лица, относясь к ним с чисто эстетической точки зрения. Даже семидесяти лет от роду, когда один его глаз был поражен болезнью, Кант, обедая по воскресеньям в доме своего приятеля, английского купца Мотерби, любил смотреть на хорошеньких женщин и постоянно сажал подле себя за обедом, со стороны здорового глаза, красавицу мисс А., причем вполне откровенно объяснял, что, смотря на нее, испытывает большое удовольствие.
Когда Кант был уже далеко не первой молодости, один добродушный пастор ни с того ни с сего вздумал сватать его к какой-то девице. Для лучшего успеха этот священник написал и издал за свой счет брошюрку, озаглавленную «Рафаил и Товия», назидательно-религиозного содержания, на тему «нехорошо человеку быть одному».
Кант был крайне озадачен и брошюрой, и неожиданным предложением пастора; в конце концов он ограничился тем, что уплатил по счету типографии, возвратив пастору его расходы. Впоследствии Кант любил рассказывать этот эпизод своим застольным собеседникам, много шутил по этому поводу и смеялся, вспоминая, как его чуть не женили.
Впрочем, Кант, в свою очередь, иногда любил играть роль свата. В этих случаях он всегда руководствовался практическими соображениями, советуя молодым людям «благоразумие» в выборе невесты.
Вообще жизнь холостяка наложила на Канта известный отпечаток: когда читаешь рассказы его биографов, иногда кажется, что речь идет об одном из добродушных типов, изображенных Диккенсом. Добродушие Канта и его заботливость о непричинении кому-либо вреда нередко граничили с комизмом. Однажды его слуга Лампе во время обеда разбил стакан. Опасаясь, чтобы кто-либо из гостей или сам Лампе не порезал себе ногу, Кант велел слуге немедленно собрать все кусочки. Но тут ему пришло на ум, что, во-первых, слуга, собирая куски стекла, может по неосторожности поранить себе руку; во-вторых, по халатности не соберет всех кусков. Поэтому Кант сам тщательно собрал все в бумажку. По окончании обеда Кант встал и сказал своим гостям: «Ну, господа, теперь пойдем в сад и сами закопаем это стекло. Я не могу доверить этого слуге». Взяв лопату, Кант вышел в сад; гости за ним. Тут явилось новое затруднение. Где закопать стекло так, чтобы оно никому не причинило вреда? После долгого обдумывания Кант наконец решил этот трудный вопрос.
Обстановка у Канта была весьма скромной. Всего требовательнее он относился к местоположению своего рабочего кабинета. Немало трудов стоило Канту устроиться сколько-нибудь удобно. Потребность в крайне сосредоточенном мышлении сделала Канта чрезвычайно требовательным. Он не выносил никакого шума или резких звуков, способных нарушить его покой во время занятий; поэтому, при всем своем консерватизме относительно привычек, Кант часто менял квартиру. Сначала он жил на берегу реки: здесь ему мешали крики польских лодочников. Другую квартиру Канту пришлось оставить потому, что у его соседа был несносный петух, своим криком мешавший философу. Кант предлагал соседу за петуха какую угодно сумму, но тот упорствовал, и дело кончилось переездом Канта на другую квартиру. Наконец, в 1783 году Канту удалось на сделанные сбережения купить маленький, скромный домик; но и здесь его покой оказался не вполне обеспеченным. Недалеко от домика Канта находилась городская тюрьма. Для нравственного исправления арестантов было придумано средство в чисто протестантском духе: они должны были несколько часов кряду петь псалмы. Громкое нестройное пение при открытых окнах тюрьмы сильно раздражало Канта. Долго терпел он, наконец написал письмо первому бургомистру, своему приятелю Гиппелю, прося его принять меры «для прекращения скандала». Письмо Канта довольно курьезно. Он пишет, что просит от своего имени и от имени других жителей этого квартала придумать меры против «громогласного благочестия этих ханжей». «Не думаю, – пишет Кант, – чтобы они имели повод жаловаться и утверждать, что их души находятся в опасности, если их голоса во время пения будут умерены тем, что они станут петь при закрытых окнах, да и в этом случае им не следовало бы кричать изо всех сил. Все равно сторож выдаст им свидетельство, о котором собственно они и хлопочут, и там будет сказано, что они весьма богобоязненны; их услышат и в том случае, если они перестанут будить своим ревом набожных граждан нашего доброго города». Просьба Канта была уважена, но тут явилась новая беда. По соседству постоянно играли танцы, и эта игра порою выводила философа из терпения. В конце концов Кант вообще невзлюбил музыку и часто называл ее несносным искусством, которое умудрилось внести элемент назойливости в саму эстетику. Впрочем, Кант охотно посещал концерты всех приезжавших в Кенигсберг знаменитостей.
Стараясь углубиться в свои размышления, Кант часто во время сумерек устремлял взор на какой-либо отдаленный предмет, большей частью на Лёбенихтскую башню. С течением времени перед башнею выросли тополя в саду соседа, настолько высокие, что листья их прикрыли башню. Эта перемена стала беспокоить Канта, и он до тех пор упрашивал соседа, пока тот не приказал обрубить верхушки своих тополей.
Купив собственный домик, Кант устроился в нем просто, но уютно. Меблировка его комнат была необычайно скромной. Единственным украшением кабинета был портрет его любимого автора Руссо. Насколько Кант увлекался чтением Руссо, видно из того, что ради произведений женевского философа он нарушил порядок своей жизни. Когда появился «Эмиль», Кант забыл свое распределение времени и читал запоем до поздней ночи. Кант знал главные сочинения Руссо почти наизусть и часто цитировал их в устном преподавании. Само собою разумеется, что такой мощный, оригинальный и в то же время методический и спокойный ум, каков был у Канта, не мог всецело подчиниться влиянию пламенной, но нередко парадоксальной проповеди Руссо; одно несомненно, что протест последнего против современной цивилизации способствовал развитию взглядов Канта не в меньшей мере, чем логичный, но сравнительно холодный скептицизм Юма. Быть может, контраст натуры Руссо с его собственною особенно привлекал Канта, у которого ум преобладал над чувством в такой же мере, в какой у Руссо сердце господствовало над логикой. Контраст этот проявляется во всем. Насколько Руссо был неуживчив и нелюдим, настолько же Кант отличался уживчивостью, уменьем поддерживать общественные отношения, приветливостью и гостеприимством. Он не искал большого общества, но любил, чтобы число гостей за столом достигало числа муз. Кант особенно дружил с несколькими английскими семействами. Самым оригинальным из его друзей был английский купец Грин. О знакомстве Канта с Грином сохранился рассказ, в точности которого сомневались некоторые биографы; по нашему мнению, рассказ этот, несомненно, имеет историческую основу, лишь эпоха несколько перепутана. За несколько лет до начала войны между Англией и ее американскими колониями, впоследствии образовавшими Соединенные Штаты, отношения были уже крайне натянуты, и в торговом городе, каковым являлся Кенигсберг, носились, конечно, слухи о возможных столкновениях. Кант был горячим поборником свободы и открыто выражал свои мнения, порицая деспотические действия английского правительства. Однажды он, гуляя в Дёнгофском саду, встретил нескольких знакомых и незнакомых людей, беседовавших об американских делах, и резко выразился о действиях Англии. Находившийся в числе собеседников англичанин Грин, не знавший Канта, почувствовав себя оскорбленным в своем британском патриотизме, ответил Канту в резких выражениях и наконец вызвал его на дуэль, требуя кровавого удовлетворения. Кант, нимало не потеряв присутствия духа, спокойно и рассудительно ответил противнику, что готов принять его вызов, но первоначально требует, чтобы его выслушали до конца. Доводы Канта в пользу правого дела поразили Грина, и дело кончилось тем, что он пожал Канту руку, проводил его домой и с тех пор они стали лучшими друзьями.
Грин был чрезвычайно оригинален, в чисто английском вкусе. Достаточно сказать, что он был еще пунктуальнее Канта; его называли «человек, заведенный по часам». Однажды вечером Кант обещал Грину сопровождать его на следующее утро в восемь часов во время прогулки. В три четверти восьмого Грин уже нервно шагал по комнате с часами в руках; в 7 часов 59 минут он надел шляпу, взял палку и, как только пробило восемь, сел в коляску и поехал. Выезжая, он встретил Канта, который подходил к его дому, опоздав лишь на две минуты. Грин, однако, не остановил коляски и проехал мимо, чтобы наказать Канта за неаккуратность.
Кроме безусловной честности, Грин отличался также проницательным умом, хотя и не имел основательного образования. Сам Кант сказал однажды: «В моей „Критике чистого разума“ нет ни одного предложения, которого я не прочел бы Грину и не просил бы обсудить его». Несколько лет кряду Кант проводил у Грина послеобеденные часы, причем иногда происходили сцены, достойные кисти художника. Явясь к Грину, Кант заставал его спящим в кресле; он сам садился в другое кресло и также засыпал. Затем являлся директор банка Руффман и, в свою очередь, начинал храпеть. В определенный час приходил купец Мотерби и будил всех троих; тогда начинались самые поучительные беседы, которые длились ровно до семи часов вечера. Пунктуальность собеседников была так велика, что они заменяли часы для обывателей околотка. Часто говорили: «Нет еще семи часов: профессор Кант еще не вышел от Грина».
Смерть Грина глубоко опечалила Канта. На время он даже отказался от своих обеденных собраний и бесед; до самой глубокой старости Кант не мог забыть своего друга. Со дня смерти Грина Кант ни разу не ужинал в обществе: это он делал лишь ради Грина. Очень дружен был Кант также с семьею Мотерби, где было много маленьких детей. Кант чрезвычайно любил детей, умел обращаться с ними и входить в их миросозерцание. «Трогательно было видеть, – пишет один из его биографов, – как этот глубокомысленный мудрец интересовался детскими играми и болтовнёю».
Кант вообще обладал способностью входить в чужой мир. Он одинаково ценил всех людей, не разбирая ни пола, ни сословия, ни возраста, ни общественного положения, видя прежде всего в каждом человеке человеческое достоинство. Поэтому в числе его друзей были и светские дамы, вроде графини Кайзерлинг, и купцы, и простые люди, вроде лесничего Вобсера, которого Кант называл «истинно немецким мужем», увековечив его память в одном из своих сочинений. К этому Вобсеру Кант уезжал за несколько верст от Кенигсберга – чуть ли не самое далекое путешествие, которое он позволял себе, никогда не отлучаясь из родного города. В домике Вобсера, в идиллической обстановке, Кант написал свой трактат «О прекрасном и возвышенном». Кант от природы был веселого нрава и даже с некоторой склонностью к сатире. Он говорил, что любит литовцев за их сатирические наклонности, и еще в молодости дружил с несколькими литовскими весельчаками. Кант охотно читал сатирических писателей и утверждал, что сатирики принесли более пользы, чем все схоластики и метафизики. Особенно он ценил Эразма, замечая, что одна его сатира стоит сотни философских трактатов. В самом Канте было, однако, недостаточно желчи и слишком много спокойствия для того, чтобы стать сатириком в полном смысле слова. Следует заметить, что спокойствие Канта и его удивительное самообладание были не столько природными качествами, сколько продуктом работы над самим собою. От природы Кант был вспыльчив, но сумел подавить в себе это качество. Единственный человек, с которым Кант не мог постоянно оставаться спокойным, был его старый слуга Лампе. Находились даже люди, которых смущал резкий тон Канта по отношению к слуге. Присмотревшись ближе, они убедились, что никакое, даже ангельское, терпение не могло устоять против глупости и упрямства этого служителя, который особенно возомнил о себе с тех пор, как узнал, что Кант – великий философ. Лампе приписывал себе часть славы Канта, а между тем был крайне ограничен и вороват. В течение многих лет Кант безусловно доверял ему; наконец убедившись, что при всей своей негодности Лампе еще и нечестен, Кант с болью в сердце рассчитал слугу.
Кант вообще жил по придуманным для себя правилам или, как он выражался, максимам. До чего доходила его страсть сочинять законы для своего поведения, показывает следующий случай. Однажды Кант возвращался со своей обычной прогулки. Как раз в то время, когда философ собирался повернуть в свою улицу, он увидел графа N., ехавшего в кабриолете. Граф, необычайно вежливый человек, тотчас остановил кабриолет, сошел и стал просить Канта, по случаю хорошей погоды, совершить с ним небольшую прогулку. Подчиняясь первому впечатлению, Кант принял предложение и сел в кабриолет. Ржание кровных рысаков и покрикивания графа начинают смущать Канта, хотя граф уверяет, что он правит, как самый лучший кучер. Граф едет за город, посещает свои имения, затем предлагает Канту еще посетить с ним одного доброго друга, живущего за милю от города. Из вежливости Кант, скрепя сердце, соглашается на все. К десяти часам вечера граф привозит Канта домой. Кант потерял весь день, испытал вместо удовольствия лишь тревогу и досаду. С тех пор Кант придумал для себя правило: никогда более не ездить в коляске, не им самим нанятой и не находящейся в его распоряжении, и никогда ни с кем не кататься. Это правило Кант соблюдал с тех пор с такой непоколебимой твердостью, что никакие блага в мире не заставили бы его сесть в чужую коляску.
Было уже замечено, что Кант выработал в себе твердость характера. Кант и в других чтил характер столько же, как и ум. Он особенно ценил людей, обязанных самим себе своим умственным или нравственным развитием. У Канта не было ни малейшего признака зависти или пренебрежения к чужим заслугам – черты, слишком часто свойственные даже великим людям (достаточно напомнить эпизод Лейбница с Ньютоном). Самого себя Кант мерил слишком малою мерою. В нем не было ни капли самоуничижения, но скромность Канта была все-таки весьма велика. Говоря однажды о Ньютоне, Кант сказал: «В науке о природе я сам следую Ньютону, если только можно сравнить малое с великим». Но свои собственные заслуги в области философии Кант сознавал вполне. Ценя других, говоря с уважением даже о своих противниках, Кант не допускал и с чужой стороны ни чванства, ни нахальства и, наоборот, с благодарностью и умилением принимал выражения почтения со стороны учеников и поклонников.
Чванливости и самолюбия Кант не терпел ни в ком. Однажды приехал в Кенигсберг его знакомый, граф С., который был недоволен последней статьей Канта и на этом основании не посетил философа. Граф обедал у приятеля. Канта пригласили к обеду, пояснив, что «его ждет граф». Кант ответил, что не приедет, так как, по обычаю, следовало графу к нему заехать. Свидание расстроилось, но в следующий свой приезд граф понял неуместность своего поведения и посетил Канта.
Когда некоторые философские противники Канта стали писать о его работах тоном учителей, он написал статью «О слишком приподнятом и надменном тоне в философии», в которой осмеял претензии своих критиков.
Одною из главных отличительных черт Канта была его безусловная правдивость как в словах, так и в действиях; того же он требовал и от других. Если ему случалось передать с чужих слов какое-либо даже самое маловажное происшествие и если потом он узнавал, что сообщенные ему другим лицом сведения не вполне точны, он спешил исправить неточность. Особенно строг был Кант ко всякому обману. Он сплошь и рядом освобождал малоимущих студентов от уплаты гонорара за свои лекции. Однажды студент, не имевший средств, из ложного стыда не заявил об этом Канту, но, наоборот, сказал, что наверное внесет такого-то числа. Срок прошел, а деньги не были внесены; наконец студент сознался, что никогда и не рассчитывал уплатить. Кант сурово упрекнул студента, хотя и разрешил ему продолжать посещение лекций. Некоторое время спустя тот же студент просил Канта назначить его в числе оппонентов на одном докторском диспуте. Кант отказал. «Ведь вы и на этот раз можете оказаться неаккуратным, – пояснил Кант. – Что, если вы не явитесь на диспут? Ведь тогда из-за вас все дело пропало!» (По обычаю, непременно должен был оппонировать кто-либо из студентов). Молодой человек впоследствии сам сознавался, что этот урок морали принес ему больше пользы в жизни, чем сотня лекций о моральном поведении.
Глава VII
Главные философские труды Канта; их история. – Кант подвергается преследованию со стороны придворных ханжей. – Последние годы жизни Канта
Мы уже выяснили, что философское миросозерцание Канта выработалось в окончательном виде в течение 1762–1765 годов. Трактат «Об оптимизме» был последней данью, принесенной Кантом догматической философии. В сочинении «Об отрицательных величинах и о реальном основании» (1763 г.) Кант занимает среднее положение между эмпиризмом и рационализмом; в «Сновидениях духовидца» (1766 г.) он приближается к скептицизму Юма, а два года спустя (1768 г.) пишет небольшой трактат «О первом основании различия областей в пространстве», особенно замечательный тем, что он представляет собою переход от эмпиризма к критицизму.
Кант задается здесь вопросом: что такое пространство и чем обусловливаются его свойства? Не могут же наглядные суждения (интуиции), какие содержатся в геометрии, дать очевидное доказательство того, что «абсолютное пространство имеет реальность независимо от существования всякой материи».
Постановка этого вопроса важна в том отношении, что указывает, каким путем Кант постепенно пришел к мысли, что пространство вовсе не имеет «своей собственной реальности», но является лишь «формою» нашей чувственности.
Пространственные отношения вещей сводятся к их положению. Вещи в пространстве находятся между собою в известных расстояниях и каждая вещь занимает свое место. Взаимные отношения положений Кант называет областями. Понятие области заключает в себе не только расстояние, но и направление. Объясним это примером: две точки находятся между собою на расстоянии одного аршина. Если одну точку принять за данную, то положение другой еще не определено: она может находиться в любом месте поверхности шара, радиус которого равен одному аршину, а центр находится в первой точке. Надо еще знать, каково направление радиуса, тогда другая точка будет вполне определена. Но направление можно задать лишь по отношению к какому-либо другому радиусу, принятому за данную величину. В конце концов оказывается, что необходимо принять некоторое постоянное направление, но постоянным оно может считаться лишь относительно наблюдателя.
Кант дает еще более простой пример. Напишем на листе бумаги два раза одно и то же слово, например: человек, человек.
Буквы одни и те же, порядок их расположения тот же, но одно слово напечатано справа, другое – слева. Говоря: «справа», «слева», мы относим положение букв к наблюдателю. Если бы свойства пространства зависели исключительно от взаимных отношений между частями объектов, мы не могли бы различить два предмета, отличающихся между собою лишь тем, что один поставлен налево, другой – направо.
Любопытно, что Кант выводит из этого, что понятия «слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади» являются выражением свойств «абсолютного пространства» и лишь после этого решается отнести их также к свойствам самого наблюдателя. При этом Кант выставляет следующие в высшей степени важные соображения, являющиеся чуть ли не лучшей попыткой объяснить трехмерность пространства. Строение нашего тела определяет для нас три основные плоскости, к которым мы и относим все предметы внешнего мира. Плоскость симметрии разделяет наше тело на правую и левую части; другая плоскость соответствует положению наших органов чувств: глаза, рот, ноздри расположены у нас спереди, чем обусловливается резкое различие между передней и задней областями; наконец, положение нашей головы делает необходимым различение между верхом и низом. Это, так сказать, физиологическое объяснение трехмерности пространства составляет первый шаг к психологическому истолкованию. Очевидно, говорит Кант, что мы воспринимаем области в пространстве лишь по отношению к нашему собственному телу. Кант допускает «особое пространственное чувство» (Raumgef?hl), или чувство пространственного существования нашего тела. Он еще не решается, однако, перенести весь центр тяжести с объекта на субъект и полагает, что «абсолютное пространство» трехмерно не только по отношению к нашему телу, но и само по себе; точно так же и другие свойства пространства объясняются не только свойствами субъекта, но и свойствами самого абсолютного пространства как своеобразного объекта, отличающегося от предметов внешних чувств и способного воздействовать лишь на специальное «пространственное чувство».
Канту оставалось сделать еще один шаг: он и был сделан в «трансцендентальной эстетике», то есть в учении об априорных формах чувственности, которое составляет важнейшую часть «Критики чистого разума».
Этот капитальнейший из всех трудов Канта появился в печати первым изданием в 1781 году; вторым, значительно измененным – в 1787 году; позднейшие издания, вышедшие при жизни Канта, не отличаются от второго, которое Кант считал, следовательно, окончательным выражением своих взглядов. Со времени Шопенгауэра в немецкой литературе не утихают споры о сравнительном достоинстве этих двух изданий. Шопенгауэр провозгласил, что второе издание есть искажение первого; его мнение разделяется и теперь многими идеалистами, которые не могут простить Канту того, что во втором издании он напечатал подробное опровержение идеалистических учений. Если самого Канта называют идеалистом и если он сам не вполне отрекся от этого имени, то необходимо помнить, что идеализм Канта совершенно особого рода. Это идеализм критический, или трансцендентальный. Под словом трансцендентальный – и это необходимо твердо помнить – Кант подразумевает не то, что стоит выше опыта, а то, что предшествует опыту, как его необходимое условие и что без последующего за ним опыта лишено всякого содержания, а стало быть, и всякого смысла. Из этого видно, что идеализм Канта гораздо более родствен с философским реализмом, чем с идеалистическими системами вроде картезианства, не говоря уже об учении Беркли. То, что стоит выше и вне всякого опыта, Кант называл не трансцендентальным, а трансцендентным и резко осуждал всякие теоретические экскурсы в эту область, признавая ее значение единственно в вопросах нравственных или практических.
В 1770 году, как мы уже знаем, Кант после многолетнего ожидания получил кафедру логики и метафизики и 20 августа этого года защищал вступительную диссертацию «О форме и принципах чувственного и постигаемого (intelligibeln) мира». Неделю спустя Кант, посылая экземпляр этой диссертации Ламберту, писал ему: «Около года уже я льщу себя мыслью, что достиг того понятия, которое никогда вовне не изменится, но, конечно, расширится и которое дозволяет испытывать все метафизические вопросы по совершенно верным и легким мерилам, причем можно с полною уверенностью сказать, насколько эти вопросы разрешимы или нет».
Таким образом, со слов самого Канта ясно, что в 1769 году он окончательно вступил на путь критической философии. Это нимало не противоречит мнению, что такой путь подготовлялся в уме Канта постепенно еще с 1763 года, не считая более ранних отдельных проблесков критического направления. Для истории развития идей Канта особенное значение представляют письма, адресованные им в течение 1770–1781 годов одному из любимейших своих учеников, Марку Герцу. Этот самый Герц был оппонентом Канта на диспуте 1770 года, затем уехал в Берлин, где вступил в близкие отношения с известным еврейским реформатором Мендельсоном. Впоследствии Герц стал выдающимся врачом и приобрел также известность своими философскими работами. В 1779 году он женился на дочери португальско-еврейского врача, Генриетте, которая славилась во всем Берлине столько же умом и образованием, сколько красотою; ее дом стал сборным пунктом берлинских философов и ученых.
Кант постоянно сообщал Герцу о плане капитального философского труда, задуманного им в 1770 году, вскоре после защиты диссертации. В одном из первых писем Кант сообщает, что намерен написать сочинение под заглавием «О границах чувственности и разума». По словам Канта, чрезвычайно важно не только для философов, но и для всех вообще важнейших человеческих целей провести различие между тем, что относится к природе нашей познавательной способности, и тем, что относится к природе предметов; необходимо также знать, что основано на субъективных принципах человеческих душевных сил, исходящих не только из чувственности, но также из рассудка. В письме от 1772 года Кант пишет: «В течение долгого времени мне недоставало еще кое-чего существенного, что на самом деле является ключом ко всем тайнам метафизики, которая до сих пор сама себя не понимала. Я спросил себя: на чем основано отношение представления к предмету?»
Прежние философы прибегали для решения этого вопроса к разным сверхъестественным началам. Платон и Мальбранш допускали какое-то наитие или откровение свыше, Лейбниц сочинил предустановленную гармонию. «Но, – пишет Кант, – допускать, что Deus ex machina определяет происхождение и значение наших познаний, – это нелепейшее из предположений, какое только можно избрать». «Теперь, – пишет Кант, – я в состоянии изложить критику чистого разума». Кант полагал, что окончит весь труд, включая критику практического разума, в течение «примерно трех месяцев».
На самом деле Канту вместо трех месяцев понадобилось девять лет на исполнение лишь одной из намеченных им задач, на создание критики теоретического разума: Не следует думать, что Кант писал и переделывал написанное: работа происходила в его голове. В своих письмах 1777—78 годов Кант жалуется на состояние своего здоровья. В 1778 году он пишет, что с некоторого времени привык считать здоровьем весьма относительное благосостояние, которое многие почли бы болезнью. По возможности он щадил свои силы и старался отдохнуть. Лишь в 1780 году Кант вновь усиленно принимается за работу. 1 мая следующего года он пишет Герцу, что вскоре издатель Гарткнох напечатает написанную им, наконец, книгу «Критика чистого разума». По первоначальному плану Канта предполагалась брошюра в несколько печатных листов; девять лет размышления довели ее до размера объемистого тома в 856 страниц (по первому изданию). В одном из писем к Мендельсону Кант говорит, что он обдумывал свое сочинение «по меньшей мере в течение 12 лет», и действительно, 1769 год был, как мы знаем, решительным поворотным пунктом. Но написана была вся книга, по словам самого Канта, «в какие-нибудь 4–5 месяцев, как бы наскоро, правда, с величайшим вниманием к содержанию, но с малым прилежанием относительно изложения и доступности для читателя». Не подлежащее никакому сомнению заявление Канта, что книга была написана в течение пяти месяцев, показывает, что он писал, когда идеи окончательно созрели в его уме. В противном случае даже такой умственный колосс не мог бы справиться с задачей написать более десяти печатных листов в месяц, особенно принимая во внимание необычайную трудность и отвлеченность предмета. Поразительная поспешность окончательной работы отразилась, конечно, на слоге: в «Критике чистого разума» нет той ясности и простоты, какую мы найдем в последующих произведениях Канта. Кант сознавал этот недостаток своего главного труда; но он не искал легкой популярности. «Немногие так счастливы, – писал он Мендельсону, – чтобы думать в одно и то же время и за себя, и за других… Есть только один Мендельсон». Окончательная работа была исполнена Кантом в конце 1780 года. В октябре этого года рижский издатель Гарткнох предложил Канту издать его труд; в декабре началось печатание. 6 апреля 1781 года Кант прислал Гаманну – мыслителю весьма оригинальному, хотя и не глубокому, – первые 30 листов, которые тот «прочел в один день». Следующие 18 листов Гаманн получил лишь 6 мая, но все эти 48 листов были лишь серединой; конец и начало все еще не печатались, потому что Кант кое-что переделывал. Временем появления «Критики чистого разума» следует считать лишь июль 1781 года.
Интересно впечатление, вынесенное первым читателем Канта – Гаманном. «Такая объемистая книга, – писал он Гердеру, – не соответствует ни росту автора (мы знаем, что Кант был мал ростом), ни понятию чистого разума, который противопоставляется им гнилому – моему разуму». Затем Гаманн аттестует Канта «прусским Юмом».
Насколько сам Кант сознавал, что его труд не отличается общедоступностью, видно главным образом из того, что он сам взялся написать популярную переделку, нечто среднее между комментарием и кратким изложением. Таким образом, в 1782 году появилась книга, озаглавленная: «Предисловие ко всякой будущей метафизике, которая будет в состоянии выступить как наука».
Появление этого сочинения было вполне своевременным. Оно на первых же порах должно было устранить недоразумения, вызванные непониманием «Критики чистого разума».
Всего нелепее, конечно, то мнение, которое, при помощи искусственных натяжек и явных подтасовок, пытается превратить систему Канта в род мистической философии. Ничто не было более чуждо натуре Канта, чем всякого рода «таинственность и вдохновенность свыше», одним словом – все, из чего слагается мистическое миросозерцание. В беседе с Яхманном Кант однажды сказал вполне категорически: «В моих сочинениях напрасно ищут каких бы то ни было следов мистицизма. Ни одно мое слово, ни одно выражение не может и не должно быть истолковываемо в мистическом смысле». Но и без этого автобиографического показания смысл учения Канта вполне ясен для всех, кто способен уразуметь его.
В непонимающих никогда не было недостатка. Желая рассеять всякие недоразумения, Кант сел писать свое «Предисловие к Метафизике» (Prolegomena). Труд этот был еще не окончен, когда (19 января 1782 года) в «Геттингенских ученых известиях» появилась первая рецензия на «Критику чистого разума». Рецензия была написана Гарвэ, философом, впоследствии высоко чтившим Канта и осознавшим крайнюю недостаточность, односторонность и неправильность своей рецензии.
Рецензия, написанная Гарвэ и переделанная до неузнаваемости редактором Федером, изменила первоначальный план кантовского «Предисловия к Метафизике». Кант счел необходимым ответить своим противникам и приписал целую главу, которую назвал «Опытом суждения о критике, забегающей вперед исследования». Здесь Кант уничтожает доводы рецензента, который строит все свои суждения, исходя из утверждения, что философия Канта есть «система высшего идеализма». В ответ на упрек в «идеализме» Кант возражает:
«Основное положение всех истинных идеалистов, начиная с элеатской школы и кончая епископом Беркли, сводится к следующей формуле: всякое познание посредством чувств и опыта есть не что иное, как чистая призрачность (Schein), и только в идеях чистого рассудка и разума заключается истина. Основное положение, господствующее всюду в моем идеализме и определяющее его, сводится к следующему: всякое познание вещей только из чистого рассудка или из чистого разума есть не что иное, как чистая призрачность, и только в опыте заключается истина».
Но это положение Канта есть не что иное, как основной принцип философского реализма. Неизбежным следствием его является, как мы увидим впоследствии, признание не зависимого от нашей личности существования внешнего мира, а это признание и отличает реализм от всех идеалистических систем. Но идеалисты, по недоразумению или по непониманию, ухватились за учение Канта об «идеальности» пространства и времени, толкуя это учение совсем не в том смысле, какой ему придан самим Кантом.
«Пространство и время, – пишет Кант в своих „Prolegomena“, – включая все в них содержащееся, суть не вещи и не свойства вещей самих в себе, но принадлежат исключительно к явлениям вещей; до этого пункта я одного исповедания с идеалистами. Но эти последние, и в особенности Беркли, считали пространство простым эмпирическим представлением… Я, наоборот, впервые показываю, что пространство, со всеми его априорными определениями, может быть познаваемо нами потому, что оно (как и время) присуще нам до всякого восприятия и опыта как чистая форма нашей чувственности… Мой так называемый (собственно критический) идеализм, стало быть, совершенно особого рода, а именно таков, что он ниспровергает обыкновенный идеализм, и в то же время только он придает объективную реальность всякому априорному познанию, даже геометрии. При таком положении дел я желал, во избежание недоразумений, совсем избежать названия („идеализм“); но едва ли это удобно. Поэтому, – заключает Кант, – да будет мне позволено впредь называть мой идеализм формальным или, еще лучше, критическим».
Тут же Кант поясняет, что настоящий идеализм имеет всегда мечтательную цель и не может иметь иной; «…мой идеализм, наоборот, служит лишь к тому, чтобы понять возможность априорного познания предметов опыта. Это задача не только не разрешенная, но и не поставленная до сих пор. Решение ее ниспровергает весь мечтательный идеализм, который всегда заключал от наших априорных познаний ко всякому созерцанию, исключая чувственное; никому не приходило на ум, что чувства также должны созерцать априори».
Здесь мы касаемся центрального пункта учения Канта об априорном познании. Весь недостаток кантовской теории, по нашему мнению, заключается не в недостатке реализма, а в том, что Кант берет готовую уже организацию зрелого ума, нимало не задаваясь вопросом о генезисе душевных свойств. Став на эту точку зрения, конечно, придется допустить, вместе с Кантом, «априорные» формы чувственности, но эта априорность есть не что иное, как накопленный опыт, частью наш личный, частью унаследованный от предков. Несомненно, что для зрелого ума пространство и время являются, как то и утверждает Кант, априорными формами, другими словами: развитый ум представляет предметы внешнего мира не иначе, как расположенными в трехмерном пространстве и так далее. Но наблюдения над малыми детьми, над людьми, прозревшими после снятия бельма и им подобными, показывают, что перспективное представление пространства вырабатывается путем опыта. Новорожденный, по-видимому, лишь смутно сознает образы различно освещенных поверхностей, совершенно не умея оценить ни расстояний, ни направлений. Сравнительная психология человека и животных еще более осветила этот вопрос и убедила в том, что все пространственные отношения являются продуктами опыта, находясь в зависимости от нервной и психической организации субъекта. В этом последнем смысле пространство действительно является формою субъекта, формою его чувственности, но Кант не прав, придавая этой форме характер абсолютной трансцендентальности, то есть утверждая, что форма всегда предшествует опыту. Это справедливо лишь в том относительном смысле, что мы рождаемся на свет с готовыми уже душевным предрасположением, конечно, не с «врожденными идеями», как думали некоторые философы, но с унаследованными душевными свойствами. Для своего обнаружения и развития эти душевные качества нуждаются, однако, в упражнении, в опыте. Опытное происхождение пространственных форм (точно так же, как и сознание времени) доказывается многими фактами: например, при значительном изменении условий опыта сознание пространства и времени существенно извращается. Так, под влиянием гашиша, морфия и других наркотических веществ время чрезвычайно удлиняется, малая комната кажется обширным дворцом и т. п. Даже здоровый ум при несколько необычайных условиях дает пространству и времени совершенно иную оценку, чем в обыденных случаях, в чем относительно пространства убеждается всякий, впервые побывав на Альпах или при полетах на аэростате. Что касается времени, всякий знает, как влияют на сознание времени сильные аффекты, например, любовь, нетерпение, страх, отчаяние. Одним словом, нимало не отвергая относительной априорности пространства и времени как форм, в которые укладывается весь наш опыт – внешний и внутренний – мы утверждаем только, что этот умственный капитал есть не что иное, как накопленный труд, то есть прошлый опыт, личный или унаследованный.
В данном случае он был, вероятно, прав; но вообще нельзя не заметить, что Кант отстал в этом отношении от Лейбница, необычайно охотно беседовавшего с образованными женщинами о философских предметах, и последний едва ли проиграл от своих бесед с королевой Софией-Шарлоттой. К сожалению, Кант не встретил в своем кенигсбергском захолустье ни одной подобной женщины; а что он был способен к увлечению женским умом и характером, доказывают его чрезвычайно сердечные отношения к графине Кайзерлинг и ее дочери, впоследствии по мужу фон дер Рекке. Эта последняя пишет о Канте:
«Я не знаю его по его сочинениям: его метафизические умозрения стоят за пределами моего понимания. Но я обязана этому знаменитому человеку многими прекрасными умными беседами. Ежедневно приходилось мне разговаривать с этим другом нашего дома, который был чрезвычайно любезным и приятным собеседником… Часто он беседовал так мило, что никогда нельзя было бы заподозрить в нем глубокого отвлеченного мыслителя, совершившего подобный переворот в философии. Беседуя в обществе, он умел нередко облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму; каждое свое мнение он излагал необычайно ясно. Он увлекательно острил, и беседа его была часто приправлена легкой сатирой, причем он умел острить, сохраняя невозмутимый вид и полную непринужденность».
По этому показанию можно судить, что не всех женщин Кант считал кухарками или же синими чулками и что не его вина, если в кенигсбергском обществе было мало женщин, подобных графине Кайзерлинг и Элизе фон Рекке. Это упускают из виду многие, слишком строго осуждающие Канта за его взгляды на женщин и забывающие, что этот философ делал выводы из окружавшей его действительности. Для дальнейшей характеристики взглядов Канта на женщину необходимо привести его суждение о взглядах Руссо. Известно, что пламенный защитник прав природы и человека отнесся несколько свысока к женщине, которая для него, как и для большинства современных швейцарцев и французов, была скорее цветком, чем серьезной подругою жизни. Нельзя сказать, чтобы Кант одобрил этот взгляд. Любезничанье с женщинами, – писал Кант в своем сочинении о прекрасном и возвышенном, – есть специальность французов и основа их искусства жить. Обыкновенно любезничают только с детьми. Руссо сказал, что женщина никогда не станет ничем большим, чем взрослым ребенком. «Это дерзкое выражение, – говорит Кант, – и я ни за какую цену не решился бы высказать его; но, чтобы понять слова Руссо, надо помнить, что они написаны во Франции». Кант утверждает, что женщины должны действовать на мужчин облагораживающим образом; но во Франции сами женщины предпочитают любезничанье труду. «Жаль, – говорит Кант, – что лилии не прядут».[1 - Тот из немецких поэтов, который наиболее подчинился влиянию философии Канта и открыто признавал это влияние – мы говорим о Шиллере – как известно, более всех способствовал серьезному отношению поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудных женских типов, составляющих главную прелесть драматических произведений Шиллера.] Кант не был женат и долгое время полагали, что он никогда не был влюблен. Поверить этому было бы трудно даже в том случае, если бы мы не имели положительного свидетельства одного из самых достоверных биографов Канта в пользу противного. Биограф этот не берется ничего сказать о молодости Канта, ограничиваясь замечанием: «Судя по темпераменту, он, вероятно, был влюблен»; зато категорично утверждает, что в зрелых летах Кант был влюблен и даже два раза. «Я не называю имен, – говорит этот биограф, – потому что для кого это важно?» Легко допустить, что и в молодости Кант увлекался, но, как человек чрезвычайно добросовестный, не решался составить семьи, пока сам находился в материальной зависимости от родственников. Что касается вопроса, почему Кант и впоследствии остался холостяком, это объясняется самым удовлетворительным образом. В ранней молодости Кант был очень застенчив с женщинами; с летами это прошло в обыденных случаях, но в вопросе настолько щекотливом, каково объяснение в любви, он остался крайне нерешительным, и, по словам биографа, одна из возлюбленных Канта уехала, так и не узнав о его страсти, а другая, видя его колебания и нерешительность, предпочла более энергичного и смелого соискателя. Постепенно Кант втянулся в одинокую жизнь холостяка, и на старости у него образовалось совершенно рассудочное, можно сказать, даже чересчур прозаичное отношение к браку. Задолго до Шопенгауэра (который и в этом, как во многих других отношениях, утрировал идеи Канта) Кант провозгласил, что истинной подоплекой всякой любви к женщине является половое влечение. В трактате «О прекрасном и возвышенном» мы читаем буквально:
«Все очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе является распространенным половым влечением. Природа преследует свою великую цель, и все тонкости, которые сюда присоединяются, и на первый взгляд, весьма далеки от полового инстинкта, в конце концов являются лишь его подкрашиванием и вся их прелесть заимствована из того же источника».
Но Кант далек от выводов, сделанных из этого впоследствии Шопенгауэром. Хотя половой инстинкт – чувство весьма грубое, но «презирать его», по словам Канта, нет ни малейшего основания, потому что этот инстинкт делает возможным самое удобное и правильное охранение порядка природы. Философ нимало не отрицает и того, что высшие формы любви отличаются от низших, хотя и имеют общий с ними источник. Любовь, основанная только на половом влечении, по его словам, легко вырождается в разнузданность и распущенность, потому что «огонь, зажженный в нас одной особой, весьма легко может быть погашен другою».
Что сам Кант был далеко не равнодушен к женской красоте, в этом убеждают многие показания. Помимо всякой любви, он охотно видел красивые женские лица, относясь к ним с чисто эстетической точки зрения. Даже семидесяти лет от роду, когда один его глаз был поражен болезнью, Кант, обедая по воскресеньям в доме своего приятеля, английского купца Мотерби, любил смотреть на хорошеньких женщин и постоянно сажал подле себя за обедом, со стороны здорового глаза, красавицу мисс А., причем вполне откровенно объяснял, что, смотря на нее, испытывает большое удовольствие.
Когда Кант был уже далеко не первой молодости, один добродушный пастор ни с того ни с сего вздумал сватать его к какой-то девице. Для лучшего успеха этот священник написал и издал за свой счет брошюрку, озаглавленную «Рафаил и Товия», назидательно-религиозного содержания, на тему «нехорошо человеку быть одному».
Кант был крайне озадачен и брошюрой, и неожиданным предложением пастора; в конце концов он ограничился тем, что уплатил по счету типографии, возвратив пастору его расходы. Впоследствии Кант любил рассказывать этот эпизод своим застольным собеседникам, много шутил по этому поводу и смеялся, вспоминая, как его чуть не женили.
Впрочем, Кант, в свою очередь, иногда любил играть роль свата. В этих случаях он всегда руководствовался практическими соображениями, советуя молодым людям «благоразумие» в выборе невесты.
Вообще жизнь холостяка наложила на Канта известный отпечаток: когда читаешь рассказы его биографов, иногда кажется, что речь идет об одном из добродушных типов, изображенных Диккенсом. Добродушие Канта и его заботливость о непричинении кому-либо вреда нередко граничили с комизмом. Однажды его слуга Лампе во время обеда разбил стакан. Опасаясь, чтобы кто-либо из гостей или сам Лампе не порезал себе ногу, Кант велел слуге немедленно собрать все кусочки. Но тут ему пришло на ум, что, во-первых, слуга, собирая куски стекла, может по неосторожности поранить себе руку; во-вторых, по халатности не соберет всех кусков. Поэтому Кант сам тщательно собрал все в бумажку. По окончании обеда Кант встал и сказал своим гостям: «Ну, господа, теперь пойдем в сад и сами закопаем это стекло. Я не могу доверить этого слуге». Взяв лопату, Кант вышел в сад; гости за ним. Тут явилось новое затруднение. Где закопать стекло так, чтобы оно никому не причинило вреда? После долгого обдумывания Кант наконец решил этот трудный вопрос.
Обстановка у Канта была весьма скромной. Всего требовательнее он относился к местоположению своего рабочего кабинета. Немало трудов стоило Канту устроиться сколько-нибудь удобно. Потребность в крайне сосредоточенном мышлении сделала Канта чрезвычайно требовательным. Он не выносил никакого шума или резких звуков, способных нарушить его покой во время занятий; поэтому, при всем своем консерватизме относительно привычек, Кант часто менял квартиру. Сначала он жил на берегу реки: здесь ему мешали крики польских лодочников. Другую квартиру Канту пришлось оставить потому, что у его соседа был несносный петух, своим криком мешавший философу. Кант предлагал соседу за петуха какую угодно сумму, но тот упорствовал, и дело кончилось переездом Канта на другую квартиру. Наконец, в 1783 году Канту удалось на сделанные сбережения купить маленький, скромный домик; но и здесь его покой оказался не вполне обеспеченным. Недалеко от домика Канта находилась городская тюрьма. Для нравственного исправления арестантов было придумано средство в чисто протестантском духе: они должны были несколько часов кряду петь псалмы. Громкое нестройное пение при открытых окнах тюрьмы сильно раздражало Канта. Долго терпел он, наконец написал письмо первому бургомистру, своему приятелю Гиппелю, прося его принять меры «для прекращения скандала». Письмо Канта довольно курьезно. Он пишет, что просит от своего имени и от имени других жителей этого квартала придумать меры против «громогласного благочестия этих ханжей». «Не думаю, – пишет Кант, – чтобы они имели повод жаловаться и утверждать, что их души находятся в опасности, если их голоса во время пения будут умерены тем, что они станут петь при закрытых окнах, да и в этом случае им не следовало бы кричать изо всех сил. Все равно сторож выдаст им свидетельство, о котором собственно они и хлопочут, и там будет сказано, что они весьма богобоязненны; их услышат и в том случае, если они перестанут будить своим ревом набожных граждан нашего доброго города». Просьба Канта была уважена, но тут явилась новая беда. По соседству постоянно играли танцы, и эта игра порою выводила философа из терпения. В конце концов Кант вообще невзлюбил музыку и часто называл ее несносным искусством, которое умудрилось внести элемент назойливости в саму эстетику. Впрочем, Кант охотно посещал концерты всех приезжавших в Кенигсберг знаменитостей.
Стараясь углубиться в свои размышления, Кант часто во время сумерек устремлял взор на какой-либо отдаленный предмет, большей частью на Лёбенихтскую башню. С течением времени перед башнею выросли тополя в саду соседа, настолько высокие, что листья их прикрыли башню. Эта перемена стала беспокоить Канта, и он до тех пор упрашивал соседа, пока тот не приказал обрубить верхушки своих тополей.
Купив собственный домик, Кант устроился в нем просто, но уютно. Меблировка его комнат была необычайно скромной. Единственным украшением кабинета был портрет его любимого автора Руссо. Насколько Кант увлекался чтением Руссо, видно из того, что ради произведений женевского философа он нарушил порядок своей жизни. Когда появился «Эмиль», Кант забыл свое распределение времени и читал запоем до поздней ночи. Кант знал главные сочинения Руссо почти наизусть и часто цитировал их в устном преподавании. Само собою разумеется, что такой мощный, оригинальный и в то же время методический и спокойный ум, каков был у Канта, не мог всецело подчиниться влиянию пламенной, но нередко парадоксальной проповеди Руссо; одно несомненно, что протест последнего против современной цивилизации способствовал развитию взглядов Канта не в меньшей мере, чем логичный, но сравнительно холодный скептицизм Юма. Быть может, контраст натуры Руссо с его собственною особенно привлекал Канта, у которого ум преобладал над чувством в такой же мере, в какой у Руссо сердце господствовало над логикой. Контраст этот проявляется во всем. Насколько Руссо был неуживчив и нелюдим, настолько же Кант отличался уживчивостью, уменьем поддерживать общественные отношения, приветливостью и гостеприимством. Он не искал большого общества, но любил, чтобы число гостей за столом достигало числа муз. Кант особенно дружил с несколькими английскими семействами. Самым оригинальным из его друзей был английский купец Грин. О знакомстве Канта с Грином сохранился рассказ, в точности которого сомневались некоторые биографы; по нашему мнению, рассказ этот, несомненно, имеет историческую основу, лишь эпоха несколько перепутана. За несколько лет до начала войны между Англией и ее американскими колониями, впоследствии образовавшими Соединенные Штаты, отношения были уже крайне натянуты, и в торговом городе, каковым являлся Кенигсберг, носились, конечно, слухи о возможных столкновениях. Кант был горячим поборником свободы и открыто выражал свои мнения, порицая деспотические действия английского правительства. Однажды он, гуляя в Дёнгофском саду, встретил нескольких знакомых и незнакомых людей, беседовавших об американских делах, и резко выразился о действиях Англии. Находившийся в числе собеседников англичанин Грин, не знавший Канта, почувствовав себя оскорбленным в своем британском патриотизме, ответил Канту в резких выражениях и наконец вызвал его на дуэль, требуя кровавого удовлетворения. Кант, нимало не потеряв присутствия духа, спокойно и рассудительно ответил противнику, что готов принять его вызов, но первоначально требует, чтобы его выслушали до конца. Доводы Канта в пользу правого дела поразили Грина, и дело кончилось тем, что он пожал Канту руку, проводил его домой и с тех пор они стали лучшими друзьями.
Грин был чрезвычайно оригинален, в чисто английском вкусе. Достаточно сказать, что он был еще пунктуальнее Канта; его называли «человек, заведенный по часам». Однажды вечером Кант обещал Грину сопровождать его на следующее утро в восемь часов во время прогулки. В три четверти восьмого Грин уже нервно шагал по комнате с часами в руках; в 7 часов 59 минут он надел шляпу, взял палку и, как только пробило восемь, сел в коляску и поехал. Выезжая, он встретил Канта, который подходил к его дому, опоздав лишь на две минуты. Грин, однако, не остановил коляски и проехал мимо, чтобы наказать Канта за неаккуратность.
Кроме безусловной честности, Грин отличался также проницательным умом, хотя и не имел основательного образования. Сам Кант сказал однажды: «В моей „Критике чистого разума“ нет ни одного предложения, которого я не прочел бы Грину и не просил бы обсудить его». Несколько лет кряду Кант проводил у Грина послеобеденные часы, причем иногда происходили сцены, достойные кисти художника. Явясь к Грину, Кант заставал его спящим в кресле; он сам садился в другое кресло и также засыпал. Затем являлся директор банка Руффман и, в свою очередь, начинал храпеть. В определенный час приходил купец Мотерби и будил всех троих; тогда начинались самые поучительные беседы, которые длились ровно до семи часов вечера. Пунктуальность собеседников была так велика, что они заменяли часы для обывателей околотка. Часто говорили: «Нет еще семи часов: профессор Кант еще не вышел от Грина».
Смерть Грина глубоко опечалила Канта. На время он даже отказался от своих обеденных собраний и бесед; до самой глубокой старости Кант не мог забыть своего друга. Со дня смерти Грина Кант ни разу не ужинал в обществе: это он делал лишь ради Грина. Очень дружен был Кант также с семьею Мотерби, где было много маленьких детей. Кант чрезвычайно любил детей, умел обращаться с ними и входить в их миросозерцание. «Трогательно было видеть, – пишет один из его биографов, – как этот глубокомысленный мудрец интересовался детскими играми и болтовнёю».
Кант вообще обладал способностью входить в чужой мир. Он одинаково ценил всех людей, не разбирая ни пола, ни сословия, ни возраста, ни общественного положения, видя прежде всего в каждом человеке человеческое достоинство. Поэтому в числе его друзей были и светские дамы, вроде графини Кайзерлинг, и купцы, и простые люди, вроде лесничего Вобсера, которого Кант называл «истинно немецким мужем», увековечив его память в одном из своих сочинений. К этому Вобсеру Кант уезжал за несколько верст от Кенигсберга – чуть ли не самое далекое путешествие, которое он позволял себе, никогда не отлучаясь из родного города. В домике Вобсера, в идиллической обстановке, Кант написал свой трактат «О прекрасном и возвышенном». Кант от природы был веселого нрава и даже с некоторой склонностью к сатире. Он говорил, что любит литовцев за их сатирические наклонности, и еще в молодости дружил с несколькими литовскими весельчаками. Кант охотно читал сатирических писателей и утверждал, что сатирики принесли более пользы, чем все схоластики и метафизики. Особенно он ценил Эразма, замечая, что одна его сатира стоит сотни философских трактатов. В самом Канте было, однако, недостаточно желчи и слишком много спокойствия для того, чтобы стать сатириком в полном смысле слова. Следует заметить, что спокойствие Канта и его удивительное самообладание были не столько природными качествами, сколько продуктом работы над самим собою. От природы Кант был вспыльчив, но сумел подавить в себе это качество. Единственный человек, с которым Кант не мог постоянно оставаться спокойным, был его старый слуга Лампе. Находились даже люди, которых смущал резкий тон Канта по отношению к слуге. Присмотревшись ближе, они убедились, что никакое, даже ангельское, терпение не могло устоять против глупости и упрямства этого служителя, который особенно возомнил о себе с тех пор, как узнал, что Кант – великий философ. Лампе приписывал себе часть славы Канта, а между тем был крайне ограничен и вороват. В течение многих лет Кант безусловно доверял ему; наконец убедившись, что при всей своей негодности Лампе еще и нечестен, Кант с болью в сердце рассчитал слугу.
Кант вообще жил по придуманным для себя правилам или, как он выражался, максимам. До чего доходила его страсть сочинять законы для своего поведения, показывает следующий случай. Однажды Кант возвращался со своей обычной прогулки. Как раз в то время, когда философ собирался повернуть в свою улицу, он увидел графа N., ехавшего в кабриолете. Граф, необычайно вежливый человек, тотчас остановил кабриолет, сошел и стал просить Канта, по случаю хорошей погоды, совершить с ним небольшую прогулку. Подчиняясь первому впечатлению, Кант принял предложение и сел в кабриолет. Ржание кровных рысаков и покрикивания графа начинают смущать Канта, хотя граф уверяет, что он правит, как самый лучший кучер. Граф едет за город, посещает свои имения, затем предлагает Канту еще посетить с ним одного доброго друга, живущего за милю от города. Из вежливости Кант, скрепя сердце, соглашается на все. К десяти часам вечера граф привозит Канта домой. Кант потерял весь день, испытал вместо удовольствия лишь тревогу и досаду. С тех пор Кант придумал для себя правило: никогда более не ездить в коляске, не им самим нанятой и не находящейся в его распоряжении, и никогда ни с кем не кататься. Это правило Кант соблюдал с тех пор с такой непоколебимой твердостью, что никакие блага в мире не заставили бы его сесть в чужую коляску.
Было уже замечено, что Кант выработал в себе твердость характера. Кант и в других чтил характер столько же, как и ум. Он особенно ценил людей, обязанных самим себе своим умственным или нравственным развитием. У Канта не было ни малейшего признака зависти или пренебрежения к чужим заслугам – черты, слишком часто свойственные даже великим людям (достаточно напомнить эпизод Лейбница с Ньютоном). Самого себя Кант мерил слишком малою мерою. В нем не было ни капли самоуничижения, но скромность Канта была все-таки весьма велика. Говоря однажды о Ньютоне, Кант сказал: «В науке о природе я сам следую Ньютону, если только можно сравнить малое с великим». Но свои собственные заслуги в области философии Кант сознавал вполне. Ценя других, говоря с уважением даже о своих противниках, Кант не допускал и с чужой стороны ни чванства, ни нахальства и, наоборот, с благодарностью и умилением принимал выражения почтения со стороны учеников и поклонников.
Чванливости и самолюбия Кант не терпел ни в ком. Однажды приехал в Кенигсберг его знакомый, граф С., который был недоволен последней статьей Канта и на этом основании не посетил философа. Граф обедал у приятеля. Канта пригласили к обеду, пояснив, что «его ждет граф». Кант ответил, что не приедет, так как, по обычаю, следовало графу к нему заехать. Свидание расстроилось, но в следующий свой приезд граф понял неуместность своего поведения и посетил Канта.
Когда некоторые философские противники Канта стали писать о его работах тоном учителей, он написал статью «О слишком приподнятом и надменном тоне в философии», в которой осмеял претензии своих критиков.
Одною из главных отличительных черт Канта была его безусловная правдивость как в словах, так и в действиях; того же он требовал и от других. Если ему случалось передать с чужих слов какое-либо даже самое маловажное происшествие и если потом он узнавал, что сообщенные ему другим лицом сведения не вполне точны, он спешил исправить неточность. Особенно строг был Кант ко всякому обману. Он сплошь и рядом освобождал малоимущих студентов от уплаты гонорара за свои лекции. Однажды студент, не имевший средств, из ложного стыда не заявил об этом Канту, но, наоборот, сказал, что наверное внесет такого-то числа. Срок прошел, а деньги не были внесены; наконец студент сознался, что никогда и не рассчитывал уплатить. Кант сурово упрекнул студента, хотя и разрешил ему продолжать посещение лекций. Некоторое время спустя тот же студент просил Канта назначить его в числе оппонентов на одном докторском диспуте. Кант отказал. «Ведь вы и на этот раз можете оказаться неаккуратным, – пояснил Кант. – Что, если вы не явитесь на диспут? Ведь тогда из-за вас все дело пропало!» (По обычаю, непременно должен был оппонировать кто-либо из студентов). Молодой человек впоследствии сам сознавался, что этот урок морали принес ему больше пользы в жизни, чем сотня лекций о моральном поведении.
Глава VII
Главные философские труды Канта; их история. – Кант подвергается преследованию со стороны придворных ханжей. – Последние годы жизни Канта
Мы уже выяснили, что философское миросозерцание Канта выработалось в окончательном виде в течение 1762–1765 годов. Трактат «Об оптимизме» был последней данью, принесенной Кантом догматической философии. В сочинении «Об отрицательных величинах и о реальном основании» (1763 г.) Кант занимает среднее положение между эмпиризмом и рационализмом; в «Сновидениях духовидца» (1766 г.) он приближается к скептицизму Юма, а два года спустя (1768 г.) пишет небольшой трактат «О первом основании различия областей в пространстве», особенно замечательный тем, что он представляет собою переход от эмпиризма к критицизму.
Кант задается здесь вопросом: что такое пространство и чем обусловливаются его свойства? Не могут же наглядные суждения (интуиции), какие содержатся в геометрии, дать очевидное доказательство того, что «абсолютное пространство имеет реальность независимо от существования всякой материи».
Постановка этого вопроса важна в том отношении, что указывает, каким путем Кант постепенно пришел к мысли, что пространство вовсе не имеет «своей собственной реальности», но является лишь «формою» нашей чувственности.
Пространственные отношения вещей сводятся к их положению. Вещи в пространстве находятся между собою в известных расстояниях и каждая вещь занимает свое место. Взаимные отношения положений Кант называет областями. Понятие области заключает в себе не только расстояние, но и направление. Объясним это примером: две точки находятся между собою на расстоянии одного аршина. Если одну точку принять за данную, то положение другой еще не определено: она может находиться в любом месте поверхности шара, радиус которого равен одному аршину, а центр находится в первой точке. Надо еще знать, каково направление радиуса, тогда другая точка будет вполне определена. Но направление можно задать лишь по отношению к какому-либо другому радиусу, принятому за данную величину. В конце концов оказывается, что необходимо принять некоторое постоянное направление, но постоянным оно может считаться лишь относительно наблюдателя.
Кант дает еще более простой пример. Напишем на листе бумаги два раза одно и то же слово, например: человек, человек.
Буквы одни и те же, порядок их расположения тот же, но одно слово напечатано справа, другое – слева. Говоря: «справа», «слева», мы относим положение букв к наблюдателю. Если бы свойства пространства зависели исключительно от взаимных отношений между частями объектов, мы не могли бы различить два предмета, отличающихся между собою лишь тем, что один поставлен налево, другой – направо.
Любопытно, что Кант выводит из этого, что понятия «слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади» являются выражением свойств «абсолютного пространства» и лишь после этого решается отнести их также к свойствам самого наблюдателя. При этом Кант выставляет следующие в высшей степени важные соображения, являющиеся чуть ли не лучшей попыткой объяснить трехмерность пространства. Строение нашего тела определяет для нас три основные плоскости, к которым мы и относим все предметы внешнего мира. Плоскость симметрии разделяет наше тело на правую и левую части; другая плоскость соответствует положению наших органов чувств: глаза, рот, ноздри расположены у нас спереди, чем обусловливается резкое различие между передней и задней областями; наконец, положение нашей головы делает необходимым различение между верхом и низом. Это, так сказать, физиологическое объяснение трехмерности пространства составляет первый шаг к психологическому истолкованию. Очевидно, говорит Кант, что мы воспринимаем области в пространстве лишь по отношению к нашему собственному телу. Кант допускает «особое пространственное чувство» (Raumgef?hl), или чувство пространственного существования нашего тела. Он еще не решается, однако, перенести весь центр тяжести с объекта на субъект и полагает, что «абсолютное пространство» трехмерно не только по отношению к нашему телу, но и само по себе; точно так же и другие свойства пространства объясняются не только свойствами субъекта, но и свойствами самого абсолютного пространства как своеобразного объекта, отличающегося от предметов внешних чувств и способного воздействовать лишь на специальное «пространственное чувство».
Канту оставалось сделать еще один шаг: он и был сделан в «трансцендентальной эстетике», то есть в учении об априорных формах чувственности, которое составляет важнейшую часть «Критики чистого разума».
Этот капитальнейший из всех трудов Канта появился в печати первым изданием в 1781 году; вторым, значительно измененным – в 1787 году; позднейшие издания, вышедшие при жизни Канта, не отличаются от второго, которое Кант считал, следовательно, окончательным выражением своих взглядов. Со времени Шопенгауэра в немецкой литературе не утихают споры о сравнительном достоинстве этих двух изданий. Шопенгауэр провозгласил, что второе издание есть искажение первого; его мнение разделяется и теперь многими идеалистами, которые не могут простить Канту того, что во втором издании он напечатал подробное опровержение идеалистических учений. Если самого Канта называют идеалистом и если он сам не вполне отрекся от этого имени, то необходимо помнить, что идеализм Канта совершенно особого рода. Это идеализм критический, или трансцендентальный. Под словом трансцендентальный – и это необходимо твердо помнить – Кант подразумевает не то, что стоит выше опыта, а то, что предшествует опыту, как его необходимое условие и что без последующего за ним опыта лишено всякого содержания, а стало быть, и всякого смысла. Из этого видно, что идеализм Канта гораздо более родствен с философским реализмом, чем с идеалистическими системами вроде картезианства, не говоря уже об учении Беркли. То, что стоит выше и вне всякого опыта, Кант называл не трансцендентальным, а трансцендентным и резко осуждал всякие теоретические экскурсы в эту область, признавая ее значение единственно в вопросах нравственных или практических.
В 1770 году, как мы уже знаем, Кант после многолетнего ожидания получил кафедру логики и метафизики и 20 августа этого года защищал вступительную диссертацию «О форме и принципах чувственного и постигаемого (intelligibeln) мира». Неделю спустя Кант, посылая экземпляр этой диссертации Ламберту, писал ему: «Около года уже я льщу себя мыслью, что достиг того понятия, которое никогда вовне не изменится, но, конечно, расширится и которое дозволяет испытывать все метафизические вопросы по совершенно верным и легким мерилам, причем можно с полною уверенностью сказать, насколько эти вопросы разрешимы или нет».
Таким образом, со слов самого Канта ясно, что в 1769 году он окончательно вступил на путь критической философии. Это нимало не противоречит мнению, что такой путь подготовлялся в уме Канта постепенно еще с 1763 года, не считая более ранних отдельных проблесков критического направления. Для истории развития идей Канта особенное значение представляют письма, адресованные им в течение 1770–1781 годов одному из любимейших своих учеников, Марку Герцу. Этот самый Герц был оппонентом Канта на диспуте 1770 года, затем уехал в Берлин, где вступил в близкие отношения с известным еврейским реформатором Мендельсоном. Впоследствии Герц стал выдающимся врачом и приобрел также известность своими философскими работами. В 1779 году он женился на дочери португальско-еврейского врача, Генриетте, которая славилась во всем Берлине столько же умом и образованием, сколько красотою; ее дом стал сборным пунктом берлинских философов и ученых.
Кант постоянно сообщал Герцу о плане капитального философского труда, задуманного им в 1770 году, вскоре после защиты диссертации. В одном из первых писем Кант сообщает, что намерен написать сочинение под заглавием «О границах чувственности и разума». По словам Канта, чрезвычайно важно не только для философов, но и для всех вообще важнейших человеческих целей провести различие между тем, что относится к природе нашей познавательной способности, и тем, что относится к природе предметов; необходимо также знать, что основано на субъективных принципах человеческих душевных сил, исходящих не только из чувственности, но также из рассудка. В письме от 1772 года Кант пишет: «В течение долгого времени мне недоставало еще кое-чего существенного, что на самом деле является ключом ко всем тайнам метафизики, которая до сих пор сама себя не понимала. Я спросил себя: на чем основано отношение представления к предмету?»
Прежние философы прибегали для решения этого вопроса к разным сверхъестественным началам. Платон и Мальбранш допускали какое-то наитие или откровение свыше, Лейбниц сочинил предустановленную гармонию. «Но, – пишет Кант, – допускать, что Deus ex machina определяет происхождение и значение наших познаний, – это нелепейшее из предположений, какое только можно избрать». «Теперь, – пишет Кант, – я в состоянии изложить критику чистого разума». Кант полагал, что окончит весь труд, включая критику практического разума, в течение «примерно трех месяцев».
На самом деле Канту вместо трех месяцев понадобилось девять лет на исполнение лишь одной из намеченных им задач, на создание критики теоретического разума: Не следует думать, что Кант писал и переделывал написанное: работа происходила в его голове. В своих письмах 1777—78 годов Кант жалуется на состояние своего здоровья. В 1778 году он пишет, что с некоторого времени привык считать здоровьем весьма относительное благосостояние, которое многие почли бы болезнью. По возможности он щадил свои силы и старался отдохнуть. Лишь в 1780 году Кант вновь усиленно принимается за работу. 1 мая следующего года он пишет Герцу, что вскоре издатель Гарткнох напечатает написанную им, наконец, книгу «Критика чистого разума». По первоначальному плану Канта предполагалась брошюра в несколько печатных листов; девять лет размышления довели ее до размера объемистого тома в 856 страниц (по первому изданию). В одном из писем к Мендельсону Кант говорит, что он обдумывал свое сочинение «по меньшей мере в течение 12 лет», и действительно, 1769 год был, как мы знаем, решительным поворотным пунктом. Но написана была вся книга, по словам самого Канта, «в какие-нибудь 4–5 месяцев, как бы наскоро, правда, с величайшим вниманием к содержанию, но с малым прилежанием относительно изложения и доступности для читателя». Не подлежащее никакому сомнению заявление Канта, что книга была написана в течение пяти месяцев, показывает, что он писал, когда идеи окончательно созрели в его уме. В противном случае даже такой умственный колосс не мог бы справиться с задачей написать более десяти печатных листов в месяц, особенно принимая во внимание необычайную трудность и отвлеченность предмета. Поразительная поспешность окончательной работы отразилась, конечно, на слоге: в «Критике чистого разума» нет той ясности и простоты, какую мы найдем в последующих произведениях Канта. Кант сознавал этот недостаток своего главного труда; но он не искал легкой популярности. «Немногие так счастливы, – писал он Мендельсону, – чтобы думать в одно и то же время и за себя, и за других… Есть только один Мендельсон». Окончательная работа была исполнена Кантом в конце 1780 года. В октябре этого года рижский издатель Гарткнох предложил Канту издать его труд; в декабре началось печатание. 6 апреля 1781 года Кант прислал Гаманну – мыслителю весьма оригинальному, хотя и не глубокому, – первые 30 листов, которые тот «прочел в один день». Следующие 18 листов Гаманн получил лишь 6 мая, но все эти 48 листов были лишь серединой; конец и начало все еще не печатались, потому что Кант кое-что переделывал. Временем появления «Критики чистого разума» следует считать лишь июль 1781 года.
Интересно впечатление, вынесенное первым читателем Канта – Гаманном. «Такая объемистая книга, – писал он Гердеру, – не соответствует ни росту автора (мы знаем, что Кант был мал ростом), ни понятию чистого разума, который противопоставляется им гнилому – моему разуму». Затем Гаманн аттестует Канта «прусским Юмом».
Насколько сам Кант сознавал, что его труд не отличается общедоступностью, видно главным образом из того, что он сам взялся написать популярную переделку, нечто среднее между комментарием и кратким изложением. Таким образом, в 1782 году появилась книга, озаглавленная: «Предисловие ко всякой будущей метафизике, которая будет в состоянии выступить как наука».
Появление этого сочинения было вполне своевременным. Оно на первых же порах должно было устранить недоразумения, вызванные непониманием «Критики чистого разума».
Всего нелепее, конечно, то мнение, которое, при помощи искусственных натяжек и явных подтасовок, пытается превратить систему Канта в род мистической философии. Ничто не было более чуждо натуре Канта, чем всякого рода «таинственность и вдохновенность свыше», одним словом – все, из чего слагается мистическое миросозерцание. В беседе с Яхманном Кант однажды сказал вполне категорически: «В моих сочинениях напрасно ищут каких бы то ни было следов мистицизма. Ни одно мое слово, ни одно выражение не может и не должно быть истолковываемо в мистическом смысле». Но и без этого автобиографического показания смысл учения Канта вполне ясен для всех, кто способен уразуметь его.
В непонимающих никогда не было недостатка. Желая рассеять всякие недоразумения, Кант сел писать свое «Предисловие к Метафизике» (Prolegomena). Труд этот был еще не окончен, когда (19 января 1782 года) в «Геттингенских ученых известиях» появилась первая рецензия на «Критику чистого разума». Рецензия была написана Гарвэ, философом, впоследствии высоко чтившим Канта и осознавшим крайнюю недостаточность, односторонность и неправильность своей рецензии.
Рецензия, написанная Гарвэ и переделанная до неузнаваемости редактором Федером, изменила первоначальный план кантовского «Предисловия к Метафизике». Кант счел необходимым ответить своим противникам и приписал целую главу, которую назвал «Опытом суждения о критике, забегающей вперед исследования». Здесь Кант уничтожает доводы рецензента, который строит все свои суждения, исходя из утверждения, что философия Канта есть «система высшего идеализма». В ответ на упрек в «идеализме» Кант возражает:
«Основное положение всех истинных идеалистов, начиная с элеатской школы и кончая епископом Беркли, сводится к следующей формуле: всякое познание посредством чувств и опыта есть не что иное, как чистая призрачность (Schein), и только в идеях чистого рассудка и разума заключается истина. Основное положение, господствующее всюду в моем идеализме и определяющее его, сводится к следующему: всякое познание вещей только из чистого рассудка или из чистого разума есть не что иное, как чистая призрачность, и только в опыте заключается истина».
Но это положение Канта есть не что иное, как основной принцип философского реализма. Неизбежным следствием его является, как мы увидим впоследствии, признание не зависимого от нашей личности существования внешнего мира, а это признание и отличает реализм от всех идеалистических систем. Но идеалисты, по недоразумению или по непониманию, ухватились за учение Канта об «идеальности» пространства и времени, толкуя это учение совсем не в том смысле, какой ему придан самим Кантом.
«Пространство и время, – пишет Кант в своих „Prolegomena“, – включая все в них содержащееся, суть не вещи и не свойства вещей самих в себе, но принадлежат исключительно к явлениям вещей; до этого пункта я одного исповедания с идеалистами. Но эти последние, и в особенности Беркли, считали пространство простым эмпирическим представлением… Я, наоборот, впервые показываю, что пространство, со всеми его априорными определениями, может быть познаваемо нами потому, что оно (как и время) присуще нам до всякого восприятия и опыта как чистая форма нашей чувственности… Мой так называемый (собственно критический) идеализм, стало быть, совершенно особого рода, а именно таков, что он ниспровергает обыкновенный идеализм, и в то же время только он придает объективную реальность всякому априорному познанию, даже геометрии. При таком положении дел я желал, во избежание недоразумений, совсем избежать названия („идеализм“); но едва ли это удобно. Поэтому, – заключает Кант, – да будет мне позволено впредь называть мой идеализм формальным или, еще лучше, критическим».
Тут же Кант поясняет, что настоящий идеализм имеет всегда мечтательную цель и не может иметь иной; «…мой идеализм, наоборот, служит лишь к тому, чтобы понять возможность априорного познания предметов опыта. Это задача не только не разрешенная, но и не поставленная до сих пор. Решение ее ниспровергает весь мечтательный идеализм, который всегда заключал от наших априорных познаний ко всякому созерцанию, исключая чувственное; никому не приходило на ум, что чувства также должны созерцать априори».
Здесь мы касаемся центрального пункта учения Канта об априорном познании. Весь недостаток кантовской теории, по нашему мнению, заключается не в недостатке реализма, а в том, что Кант берет готовую уже организацию зрелого ума, нимало не задаваясь вопросом о генезисе душевных свойств. Став на эту точку зрения, конечно, придется допустить, вместе с Кантом, «априорные» формы чувственности, но эта априорность есть не что иное, как накопленный опыт, частью наш личный, частью унаследованный от предков. Несомненно, что для зрелого ума пространство и время являются, как то и утверждает Кант, априорными формами, другими словами: развитый ум представляет предметы внешнего мира не иначе, как расположенными в трехмерном пространстве и так далее. Но наблюдения над малыми детьми, над людьми, прозревшими после снятия бельма и им подобными, показывают, что перспективное представление пространства вырабатывается путем опыта. Новорожденный, по-видимому, лишь смутно сознает образы различно освещенных поверхностей, совершенно не умея оценить ни расстояний, ни направлений. Сравнительная психология человека и животных еще более осветила этот вопрос и убедила в том, что все пространственные отношения являются продуктами опыта, находясь в зависимости от нервной и психической организации субъекта. В этом последнем смысле пространство действительно является формою субъекта, формою его чувственности, но Кант не прав, придавая этой форме характер абсолютной трансцендентальности, то есть утверждая, что форма всегда предшествует опыту. Это справедливо лишь в том относительном смысле, что мы рождаемся на свет с готовыми уже душевным предрасположением, конечно, не с «врожденными идеями», как думали некоторые философы, но с унаследованными душевными свойствами. Для своего обнаружения и развития эти душевные качества нуждаются, однако, в упражнении, в опыте. Опытное происхождение пространственных форм (точно так же, как и сознание времени) доказывается многими фактами: например, при значительном изменении условий опыта сознание пространства и времени существенно извращается. Так, под влиянием гашиша, морфия и других наркотических веществ время чрезвычайно удлиняется, малая комната кажется обширным дворцом и т. п. Даже здоровый ум при несколько необычайных условиях дает пространству и времени совершенно иную оценку, чем в обыденных случаях, в чем относительно пространства убеждается всякий, впервые побывав на Альпах или при полетах на аэростате. Что касается времени, всякий знает, как влияют на сознание времени сильные аффекты, например, любовь, нетерпение, страх, отчаяние. Одним словом, нимало не отвергая относительной априорности пространства и времени как форм, в которые укладывается весь наш опыт – внешний и внутренний – мы утверждаем только, что этот умственный капитал есть не что иное, как накопленный труд, то есть прошлый опыт, личный или унаследованный.