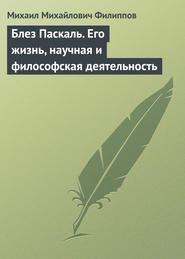По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1700 году София Шарлотта с матерью поехала в Нидерланды. Они посетили Гаагу, где лично познакомились с Бейлем и целыми часами беседовали с ним. По возвращении королевы, как раз в то время, когда она жила в обществе Лейбница в Лютценбурге, было напечатано новое, значительно дополненное издание «Философского словаря» Бейля. Королева прочла это замечательное произведение вместе с Лейбницем. Они вместе обсуждали вопросы, возбужденные Бейлем. Не следует думать, что София Шарлотта была только ученицей, благоговевшей перед каждым словом учителя. Подобно своей матери, она отличалась умом чрезвычайно здравым, ясным и нередко сразу схватывавшим то, что ставило в тупик философов. Ее здравый смысл часто отыскивал дорогу там, где, по выражению Лейбница, «кончалась латынь философов». Еще мать королевы, узнав от Лейбница основания его «монадологии», не без остроумия заметила: «Одного не могу понять, каким образом единица может включать в себя то, чего не включает совокупность единиц? Я всегда думала, что четыре талера больше, чем один талер». София Шарлотта также не уверовала слепо в монадологию. Математические доводы в философии казались ей неясными. Она сознавалась, что не знает математики, и, быть может, поэтому ей не все ясно. Поверхностных и так называемых «популярных» объяснений она не выносила по добросовестности натуры и пытливости ума. В одном письме к своей верной Пёлльниц она пишет: «Вот письмо Лейбница. Я люблю этого человека, но я готова на него сердиться за то, что он не доверяет моим способностям и так поверхностно объясняет мне предметы, которые серьезно интересуют меня». В своем письме Лейбниц объяснял ей между прочим теорию бесконечно малых, но ограничился самыми общими фразами. Королева шутит по этому поводу, говоря, что она более кого бы то ни было, знакома с бесконечно малыми, – достаточно посмотреть на некоторых льстивых и невежественных придворных. В другом письме Лейбниц развивал свою теорию страстей и аффектов, стараясь доказать, что страсти – не что иное, как смутные представления. Королева пишет своей Пёлльниц: «Великий Лейбниц! Ты говоришь прекрасные истины! Ты нравишься, убеждаешь, но не исправляешь».
Основание академии наук в Берлине окончательно сблизило Лейбница с королевой. Муж Софии Шарлотты мало интересовался философией Лейбница, но проект основания академии наук показался ему интересным. 18 марта 1700 года Фридрих III (в то время еще курфюрст) подписал декрет об основании академии и обсерватории. Два дня спустя Лейбниц был приглашен в Берлин, куда несколько раньше его приехала гостившая в Ганновере София Шарлотта. Кроме вопроса об академии, в Берлине были заняты свадебными торжествами: дочь курфюрста от первого брака выходила замуж. Для Фридриха III это было поводом к устройству необычайно пышных торжеств, длившихся четыре недели.
Из Парижа и Милана были нарочно выписаны певцы и танцоры; маскарады сменялись балами, балы – оперетками. София Шарлотта не вынесла такого продолжительного веселья и на время оставила Берлин. Лейбниц не мог уехать и писал ей:
«Был на оперетке: очень веселые арии. Даже такому профану в музыке, как я, это может нравиться. Вчера лишь в три часа ночи приехал в Лютценбург: веду образ жизни, который курфюрстина (мать Софии Шарлотты) называет распущенным. Я совершенно сбит с толку и вне своей стихии».
11 июля того же года, в день рождения Фридриха, была торжественно открыта Берлинская академия наук и Лейбниц назначен первым ее президентом. Не обошлось без новых празднеств и маскарадов. На этот раз маскарад был совсем особенный. Маркграф Христиан Людвиг изображал торговца и открыл лавочку, в которой продавал колбасу и копченый язык, маркграф Альберт танцевал на канате, граф Солмс прыгал через веревочку, один из принцев изображал фокусника. Это была настоящая балаганная пародия на версальских маркизов и пастушек. На этот раз и София Шарлотта веселилась от души, изображая докторшу, и самого Лейбница хотели нарядить астрологом, но он уперся и был очень рад, когда эту роль принял на себя граф Виттгенштейн. Лейбниц описал все это празднество немного юмористически, но с восторженными отзывами о Софии Шарлотте, и ей так понравилось это письмо, что она послала копии матери в Ганновер и герцогине Орлеанской в Версаль.
Лейбниц написал по случаю открытия академии два мемуара, в которых выставил национальное значение этого учреждения для всего немецкого мира. Не мешает заметить, что к этому времени Лейбниц значительно повернул в сторону национальных течений, стал резко восставать против «прошлогодних французских платьев» и вообще всякого рабского подражания Франции. Любопытно, что в последние годы XVII века Лейбниц все чаще пишет по-немецки, слог его постепенно освобождается от варварских латинских и французских примесей, приобретая вместе с этим мужественность и силу. Хотя свои главные сочинения он продолжает писать по-французски и по-латыни, но и одних немецких сочинений Лейбница, написанных в XVIII веке, было бы достаточно для того, чтобы составить славу крупного писателя, особенно если принять во внимание, что многие письма Лейбница стоят ученых трактатов, а из этих писем немало есть и немецких.
В своей второй записке об академии Лейбниц говорит, что новое учреждение должно быть пропитано немецким духом. Он не желает, чтобы Берлинская академия была копией Парижской. Своеобразной чертой немецкой академии должно быть, по мнению Лейбница, гармоничное сочетание теории с практикой. Наука должна быть не оторванной от жизни, но примененной к нуждам гражданского общества. Лейбниц порицает науку, основанную на простом любопытстве и жажде к знанию ради знания. Не следует, говорит он, производить бесплодные опыты, не находящие себе применений, что мы часто видим в Париже, в Лондоне и во Флоренции. В академии теория должна идти рука об руку с практикой, надо заботиться не только об искусствах и науках, но и о сельском хозяйстве, ремесле, словом – об улучшении всякого рода средств к прокормлению. У самого Лейбница дело, было соединено со словом, теория с практикой. Едва вступив на пост президента Берлинской академии, он взялся за такой чисто практический вопрос, как разведение шелковичных деревьев. Лейбниц был убежден в возможности устройства в Пруссии шелковичных плантаций и предпринял ряд опытов, впоследствии забытых и возобновленных лишь Фридрихом Великим. Чрезвычайно занимали Лейбница также вопросы практической медицины. Он был невысокого мнения о тогдашних немецких врачах (в Пруссии были почти одни военные врачи и хирурги), но следил за каждым медицинским открытием. Так, Лейбниц один из первых занялся вопросом о целебных свойствах привезенной из Америки ипекакуаны. Он энергично оспаривал известного Сталя, проповедовавшего утрированный «психический принцип» и относившийся с презрением к анатомии. Лейбниц, наоборот, считал анатомию основанием медицины. В эпоху, когда военное искусство считалось благороднейшим из всех, Лейбниц заявил, что медицинская наука выше военной, и говорил, что если бы врачи были в таком же почете, как великие полководцы, то, конечно, медицина стояла бы высоко.
Вопрос о народных школах также занимал Лейбница. В этом, как и в некоторых других случаях, его опередил бывший его учитель, иенский профессор Вейгель, который в 1696 году объехал всю Германию, изучая положение весьма жалких в то время протестантских народных школ. Вейгель, однако, не обратился к Лейбницу, на которого разгневался за то, что Лейбниц не поддержал присланного им проекта переименования созвездий по гербам владетельных домов. Через третьих лиц Лейбниц, однако, узнал о новом плане Вейгеля относительно преобразования народных школ, отнесся к этой мысли чрезвычайно сочувственно и пожалел о том, что Вейгель не обратился к нему. «Впрочем, – сказал Лейбниц, – кто меня знает только по моим изданным книгам, тот меня не знает». Вейгель в том же году умер, но Лейбниц продолжил его дело и много содействовал улучшению народного образования и в Пруссии, и в Ганновере.
Первые годы XVIII столетия было счастливейшей эпохой в жизни Лейбница. В 1700 году ему исполнилось пятьдесят четыре года. Он находился в зените своей славы, не должен был думать о насущном хлебе, был независим, мог спокойно предаваться своим любимым философским занятиям, и, что всего важнее, его жизнь согревалась высокой, чистой любовью женщины – вполне его достойной по уму, нежной и кроткой, без излишней чувствительности, которая свойственна многим немецким женщинам, смотревшей на мир просто и ясно. Любовь такой женщины, философские беседы с нею, чтение произведений других философов, особенно Бейля, – все это не могло не повлиять на деятельность самого Лейбница. Как раз в то время, когда Лейбниц возобновил связь со своей бывшей ученицей, он работал над системой «предустановленной гармонии» (1693—1696). Беседы с Софией Шарлоттой о скептических рассуждениях Бейля навели его на мысль написать полное изложение своей собственной системы. Он работал над «Монадологией» и над «Теодицеей»; в последнем труде прямо отразилось влияние великой женской души; но королева София Шарлотта не дожила до окончания этого труда.
Она медленно сгорала от хронической болезни и задолго до смерти привыкла к мысли о возможности умереть в молодости.
«Я на этот счет спокойна, – писала она Лейбницу еще в начале 1700 года. – Я убеждена, что будущего я должна менее бояться, чем настоящего. По опыту знаю, что мое тело подвержено страданиям, а будущее состояние души я не могу представить себе в таком печальном виде, как нас хотят уверить иные люди. Боязнь черта никогда еще мне не внушала страха к смерти. Вы знаете давно, сколько во всем этом есть истины, и мы будем с Вами весело говорить о предмете, который не может иметь серьезного значения для человека, подобного Вам, проникающего в причины вещей… Поспешите с приездом из милосердия к бедной Пёлльниц, которая теперь изучает математику и совсем потеряет голову, если Вы не придете к ней на помощь. Что касается меня, я довольствуюсь созерцанием фигур и чисел: все эти вещи для меня то же, что греческий язык. Только о единице (монаде) я, благодаря Вашим стараниям, имею маленькое понятие».
В начале 1705 года королева София Шарлотта поехала к матери. Лейбниц, против обыкновения, не мог сопровождать ее. В дороге она простудилась и после непродолжительной болезни 1 февраля 1705 года неожиданно для всех умерла. Внук ее, Фридрих Великий, сохранил в своих мемуарах трогательные подробности ее последних минут. Одна из ее придворных дам, видя, что королеве дурно, стала горько плакать.
– Не плачьте обо мне, – сказала умирающая, – я теперь счастлива: вскоре я буду в состоянии удовлетворить свою любознательность о первых причинах всех вещей, о пространстве, о бесконечности, обо всем, чего Лейбниц не мог мне объяснить, о бытии и о ничтожестве; а король, мой супруг, будет рад удобному предлогу обнаружить на моих похоронах свою любовь к блеску и роскоши.
Лейбниц был подавлен горем. Единственный раз в жизни ему изменило обычное спокойствие духа. Привязанность королевы к Лейбницу была настолько общеизвестна, глубокое горе философа стояло настолько выше всяких придворных сплетен и интриг, что посланники всех иностранных держав и другие лица сочли своим долгом сделать Лейбницу визиты с выражением соболезнования об испытанной им утрате.
Через несколько дней после получения горестного известия Лейбниц писал девице Пёлльниц:
«Я не плачу и не ропщу, но не знаю, что мне делать. Порою мне кажется, что смерть королевы – это мое сновидение: но, очнувшись, я слишком чувствую, что все это истина. Ваше горе не меньше моего, но Вы еще живее чувствуете, потому что Вы были подле нее… Мое письмо более философского характера, чем мое сердце… Почтить память лучшей из королев следует не мрачной тоской, а тем, что мы будем стремиться подражать ее идеалу».
Тогда же он пишет генералу Шуленбургу:
«Хотя ум мой говорит мне, что всякие жалобы напрасны и что лучше почитать память королевы, чем жалеть о ней, но моя сила воображения постоянно заставляет меня видеть королеву со всеми ее совершенствами и говорит мне, что она у нас отнята и что я потерял самое величайшее счастие, на какое мог рассчитывать, по человеческим соображениям, на всю свою жизнь».
Действительно, философ мог думать, что королева переживет его. Лейбниц был на тридцать лет старше Софии Шарлотты: когда она умерла, ему было почти 59 лет. В первые месяцы после ее смерти он не мог заниматься ни философией, ни наукой, бросил все; написал несколько писем близким людям, затем прекратил даже свою обширную корреспонденцию и жил воспоминаниями о ней. Лишь в июле Лейбниц несколько приходит в себя и пишет письма; в каждом письме опять звучит скорбь. Он пишет (по-латыни) богослову Готтону в Кембридж:
«Моя обычная переписка с Вами и другими друзьями потерпела перерыв вследствие смерти королевы. Она была ко мне необыкновенно привязана и часто искала моего общества; таким образом, я часто наслаждался беседами с этой королевой, самой талантливой и самой приветливой из всех когда-либо живших. Избалованный этим драгоценным счастьем, я не только разделял всеобщую печаль, но, по причинам самого частного характера, испытал сильнейшее горе… Я был близок к опаснейшей болезни и едва оправился. Невероятны были у королевы способности к пониманию труднейших вещей и стремление к расширению знаний, и она со мною вела беседы, в которых еще более могла бы удовлетворить свою любознательность, к немалой пользе и для общества, если бы смерть не прервала все».
С мая по октябрь Лейбниц был постоянно болен. В ноябре он приехал в Берлин, где король Фридрих, как бы исполняя предсмертные слова жены, опять устроил пышные празднества.
Лейбниц против воли должен был приходить, но уходил расстроенный, негодующий.
Он описал королеву и в прозе, и в лучшем из своих стихотворений.
«Она ни к кому не относилась пренебрежительно или резко и не любила, чтобы другие так относились в ее присутствии. Приветливость ее очаровывала всех… Она редко гневалась и не знала чувства мщения; рассердить ее было трудно, примирить – легко; о ней говорили, что она по характеру голубка, так мало в ней было желчи и горечи. Ложь и клевета еще в детстве были ей противны. Радовать всех и всех видеть счастливыми – в этом была радость ее сердца; чужое несчастье было ее горем».
В поэтической форме Лейбниц пытался воспроизвести свое учение о душе, вытекающее из оснований его философии.
«Это солнце стало невидимым, – пишет он, – свет высокого ума, блеск истинной добродетели, яркое сияние красоты – все погасло! Каждый дух представляет собою целое здание вселенной, как будто отраженное в одном зеркале… Он – изображение творения и был его целью… Что такое истинная любовь, как не наслаждение совершенством того, что мы любим?»
Но главный литературный памятник Софии Шарлотте поставил Лейбниц в своей «Теодицее».
Глава VIII
Философское учение Лейбница.
В последнем десятилетии XVII века (1695—1697) был напечатан «Исторический и критический словарь» Бейля, получивший прозвание «библии скептицизма», – книга, произведшая огромное впечатление на тогдашний ученый мир и на публику и оказавшая значительное влияние на большую часть писателей XVIII столетия. Две основные идеи господствуют в этом сочинении: начало религиозной терпимости и мысль, что огромное большинство догматических положений как богословских, так и чисто философских, приводит к неразрешимым противоречиям и потому должны быть признаваемы более или менее сомнительными.
Многие из мыслей Бейля произвели глубокое впечатление на Софию Шарлотту, и, по ее просьбе, Лейбниц задумал написать опровержение этих скептических воззрений. По вопросу о религиозной терпимости мнения Бейля совпадали с его собственными: но скептицизм подкапывал основы его оптимистического миросозерцания. Бороться с таким сильным умом казалось Лейбницу долгом совести, и просьбы Софии Шарлотты ускорили его решимость. Сам Лейбниц пишет об этом в предисловии к «Теодицее»:
«Беседы со многими учеными… но, главным образом, с одною из величайших и совершеннейших монархинь привели автора к этому решению… Королева настоятельно требовала, чтобы он исполнил свое давнишнее намерение; некоторые друзья присоединились к ее голосу… Многие препятствия замедлили работу, и более всего смерть несравненной королевы. Между тем, Бейль подвергся нападкам многих замечательных людей. – Он отвечал подробно и всегда весьма умно. Я внимательно следил за этим спором и сам почти был увлечен им».
Чтобы понять «Теодицею» Лейбница, необходимо ознакомиться с основными началами его философии, с его учением о монадах. Лишь поверхностная и близорукая критика могла утверждать, что между «Монадологией» и «Теодицеей» нет никакой связи, что у Лейбница философия сама по себе, а богословие само по себе. Были даже критики, утверждавшие, что сам Лейбниц, в сущности, пантеист вроде Спинозы, что он писал «Теодицею», сам себе не веря или желая себя утешить после смерти королевы. Такое раздвоение или самообольщение настолько чуждо целостной и гармоничной натуре Лейбница, что почти не верится, чтобы люди, рассуждающие таким образом, читали то, о чем они пишут. А между тем в числе таких критиков есть даже переводчики и усердные комментаторы Лейбница, такие, например, как новейший писатель Гоббс.
Монадология Лейбница есть первая попытка основать учение, известное в наше время под именем эволюционизма, или теории постепенного развития. Было уже указано на теснейшую связь этой теории с открытым Лейбницем методом дифференциального и интегрального исчисления. Развитие есть накопление или суммирование бесконечно малых изменений, подверженных известному закону и в конце концов дающих «конечное» или заметное изменение. Недаром новейшие эволюционисты избрали выражения «дифференциация» и «интеграция» для обозначения основных процессов развития. Конечно, возможны и пантеистические, и даже атеистические миросозерцания, признающие гипотезу развития; но в том виде, как она обоснована Лейбницем, самым естественным увенчанием системы является теизм, и притом в монотеистической форме, потому что, по учению Лейбница, божество есть не что иное, как наиболее совершенная из всех монад.
Что такое монада? Это не «единица» в арифметическом смысле слова, потому что в арифметике единица есть понятие относительное: данная единица состоит из меньших единиц, всякая арифметическая единица делима. «Не будь этого, – писал Лейбниц королеве Софии Шарлотте, – в арифметике, к величайшей радости школьников, совсем не существовало бы дробей». Монада – не атом, как его понимали древние атомисты, которых Лейбниц называет «корпускулярными философами», от слова corpusculus – тельце, атом. Атомы Демокрита и Эпикура, Гассенди и Гоббса материальны, поэтому протяженны и делимы, их только по недоразумению называют атомами (неделимыми). Монады Лейбница – это «метафизические» единицы, абсолютно неделимые, подобно математическим точкам. Сущность монады составляет не число, а сила, и, если метафизический язык Лейбница перевести, насколько это возможно, на язык современной науки, то окажется, что монады – не что иное, как центры сил. Лейбниц определяет их еще как «атомы субстанции». Но «субстанция» Лейбница не есть протяженная субстанция Декарта. Все субстанции, по Лейбницу, суть силы. Монады имеют существенно динамический, и притом телеологический (целесообразный) характер. Они не только неделимые единицы, но и индивидуумы, существа вполне самостоятельные, первобытные и способные к непрерывному развитию. Это учение прямо противоположно пантеизму, то есть всеобъемлющему единому принципу, но нимало не противоречит монотеизму, конечно, существенно отличающемуся от канонических учений. В то же время оно резко отличается и от дуалистической философии Декарта, проводящей непреодолимую пограничную черту между духом и материей. Господствующее в философии Лейбница понятие силы является в ней посредствующим звеном между миром материальным и духовным: сила не есть ни дух, ни материя, но принцип, без которого немыслимо ни духовное, ни материальное. Монада включает в себя и духовный, и материальный принципы. Монады не могут ни возникнуть, ни погибнуть. Лейбниц называет их inеnеrables et incorruptibles. Они так же древни, как сам мир; ни одна не возникла раньше другой, ни одна не исчезла и не исчезнет. «Поэтому сумма вселенной всегда одна и та же». Сотворение монады было бы необъяснимым чудом. Из принципа постоянства и сохранения монады вытекает принцип: «Сумма всех движущих сил природы постоянна, в природе всегда сохраняется одно и то же количество живой силы». Это утверждение Лейбница – первый и неполный шаг к установлению принципа сохранения энергии. (Ньютон, в свою очередь, содействовал открытию этого принципа своим законом действия и противодействия).
Монады не тожественны между собою по природе, но, наоборот, существенно различны. Мир состоит из непрерывного ряда монад, различных между собою по степени совершенства, но в то же время бесконечно разнообразных. В природе нет скачков, есть лишь постепенные переходы. Тоны гаммы – не единственно возможные музыкальные звуки: между двумя смежными тонами можно вставить бесконечное число промежуточных тонов. Лейбниц не допускает существования абсолютно пустого пространства и сообразно с этим полагает, что и между монадами нет пустых промежутков, нет «метафизической» пустоты.
Между природой и духом, между бессознательным существом и сознательным нет противоположности или непроходимой бездны, но есть бесчисленное множество переходных ступеней. Эта идея послужила для Лейбница источником для открытия весьма важного психологического принципа, сохранившего значение до новейшего времени и послужившего источником философского вдохновения для Гартмана и многих модных философов. Лейбниц первым установил понятие об апперцепции в отличие от перцепции, о сознании в отличие от бессознательного восприятия или представления (оба эти термина, взятые сами по себе, не совсем точно передают понятие о перцепции). Сам Лейбниц дает такое определение: «Перцепция есть внутреннее состояние монады как обладающей представлением внешнего мира (по Лейбницу, перцепция свойственна всем монадам). Апперцепция есть сознание (conscience) или рефлексивное познание этого внутреннего состояния (connaissance reflexive de cet еtat intеrieur), и это сознание дано не всем монадам». Самосознающая монада, в противоположность монаде, обладающей лишь неясною силою представления, обладает ясным представлением. Такая сознательная монада и есть дух. Помимо сознательных представлений есть, стало быть, представления бессознательные. (Это учение и послужило исходным пунктом для всех позднейших теорий «бессознательного»).
Животные – не машины, не автоматы, какими их считала школа Декарта; подобно человеку, они обладают душевными способностями, но не имеют духовной жизни; они – индивидуумы, но не личности. Душа животного может представлять, чувствовать, но не знать. Животные обладают памятью; они комбинируют впечатления прошлого опыта; но они неспособны к суждению. Собака, испытавшая удар палки, боится палки, потому что соединяет с известным зрительным образом воспоминание об испытанной боли, но она не рассуждает и не имеет идеи о причинной связи между ударом и палкою. (Это утверждение Лейбница подверглось тонкой критике со стороны скептика Бейля).
Теория бессознательных представлений, которые могут быть бесконечно малыми (perceptions pentes),– это учение, состоящее в очевидной связи и с монадологией, и с дифференциальным исчислением, – развито Лейбницем с большою силою, и, исходя из него, он отвергает два крайних учения, из которых одно считало дух гладкой доской (tabula rasa), на которой внешний опыт, при посредстве органов чувств, пишет все, что ему вздумается, тоща как другое признало существование вполне готовых врожденных идей. Обе эти школы, по мнению Лейбница, заблуждались потому, что не имели понятия о существовании бессознательных представлений. Рационалисты ошибались, признавая существование первичных сознательных представлений; сенсуалисты заблуждались, думая, что вообще никаких первичных представлений нет и быть не может. Думать, что все врожденное непременно познаётся, есть, по мнению Лейбница, крупная философская ошибка. Врожденное сначала имеет смутный характер; нередко требуется много внимания и развития для того, чтобы сознать это врожденное. Между врожденным и познанным такое же множество переходных ступеней, как между способностью и виртуозностью.
Развивая далее свое учение, Лейбниц пришел к важной мысли, что бессознательные представления составляют даже в самом развитом духовном существовании дополнение представлений сознательных. Дух человека никогда не вполне бездеятелен, даже во время самого глубокого сна. Как только прекращается деятельность сознательных представлений, бессознательная душевная жизнь тотчас вступает в свои права, оставаясь тогда единственно возможной.
Теория непрерывности развития приводит Лейбница к утверждению, что бессознательные представления отличаются от сознательных лишь по степени; спускаясь постепенно вниз, он находит, что сознательные представления могут дойти до такой бесконечно малой величины, когда они становятся недоступными сознанию. «Малые перцепции», однако, играют гораздо большую роль, чем можно думать. «Они образуют это нечто, эти вкусы, эти образы, которые в целом ясны, но в частях смутны… эту связь, соединяющую каждое существо с остальной вселенной». Такова психология Лейбница. Из нее непосредственно вытекает его своеобразное учение о причинности и о свободе воли. Здесь, как и во всей философии Лейбница, мы видим стремление устранить роковые противоречия путем «гармонического» сочетания противоречащих принципов. Лейбниц рассекает гордиев узел, заявляя, что всякая воля определена законом причинности. Вполне безусловной воли не существует. Воля есть врожденное, присущее душе стремление. Нелепо (по мнению Лейбница) утверждать, что наше хотение определено опять-таки хотением. Мы не «хотим хотеть», но «хотим действовать»; в противном случае можно было бы идти до бесконечности, то есть сказать, что мы «хотим хотеть хотеть» и так далее, а это не более чем пустое сочетание слов, потому что при такой удаляющейся в бесконечность воле мы никогда не дошли бы до ее осуществления. Отвергая так называемое безразличное состояние воли, Лейбниц применяет к нему басню об осле, который умер с голода между двумя стогами сена, колеблясь в выборе между тем и другим. Этот осел есть нечто нелепое и невозможное. На самом деле ни две половины вселенной, ни две половины самого осла не абсолютно равны и не одинаковы расположены, а потому осел непременно пойдет в ту или в другую сторону. То же относится и к человеческой воле, хотя она определяется более сложными мотивами, иногда до того сложными, что наш разум не в состоянии охватить их в целом и анализировать по частям. Свобода человеческой воли есть независимость, но не произвол. Независимость эта состоит, по Лейбницу, в том, что человек, живя сознательной, духовной жизнью, находится под влиянием бесчисленных склонностей и стремлений, из которых лишь часть представляется его сознанию, но все действуют совокупно, причем их общая равнодействующая и определяет то или иное направление нашей деятельности. «Если я в данный момент пишу эти строки, – говорит Лейбниц, – этот мой акт есть следствие „склонности“, условия которой коренятся весьма глубоко в моей прошлой душевной жизни. В этом смысле мой настоящий акт вполне определен и мотивирован. Но разве из этого следует, что он необходим в том смысле, что я не мог бы желать во всякую минуту бросить писать, если бы захотел это сделать? Стоит поставить этот вопрос, чтобы отвергнуть такую необходимость».
Здесь Лейбниц коренным образом расходится и с защитниками теории абсолютной свободы воли, и с детерминистами, которые повторяют изречение Спинозы: «Человек, полагающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который вообразил бы, что он хочет лететь».
Из предшествующего можно догадаться, что для доказательства бытия верховного Существа Лейбниц прибегает к доводам так называемого «космологического характера». Существование мира, по мнению Лейбница, само по себе не могло бы доказать существование Бога; последнее выводится из наличия мирового порядка. Бесчисленные монады – существа, вполне независимые между собою, развивающиеся каждая по закону своей индивидуальности. Каким же образом их совместное существование дает не хаос, а порядок? По мнению Лейбница, это объяснимо лишь допущением единой всеобщей причины, направляющей ход вещей. Другое доказательство состоит в том, что монады представляют бесчисленные ступени развития, поэтому, считает Лейбниц, должна быть высшая ступень. Эта наивысшая монада и есть Божество. В качестве наивысшей монады оно обладает и наивысшей свободой воли, наивысшим самоопределением. Подобно тому, как растение не может познать животное, а животное не может познать человека, так и нашему уму недоступно даже приблизительное познание наивысшей монады. Мы в состоянии иметь о ней лишь смутные и неясные представления, можем понять ее совершенства лишь по аналогии, сравнивая себя с существами, которые ниже нас.
Все монады, даже самая низшая, вполне независимы по своей деятельности, но не по своему существованию. Они действуют собственной силой, но сила эта создана высшею монадою – божеством. Божество относится поэтому к монадам, во-первых, как высшая сила к низшим; во-вторых, – как творец к своим созданиям. Как наивысшая монада божество есть идеал, конечная цель, к которой стремятся все прочие монады; как творческое начало оно есть конечная причина, производящая все остальные. В качестве конечной причины божество обусловливает закон механической причинности; в качестве идеала оно сознает, своею мудростью и благостью, нравственный закон. Механик сооружает машину, правитель мира устраивает государство. Поэтому мир есть не только совершеннейший из миров по закону физической причинности, но и наилучший из возможных миров в нормальном отношении. Здесь мы видим коренной источник оптимизма Лейбница. Мировой порядок есть действие могущества и мудрости совершеннейшего существа; это утверждение ставит Лейбница в ряды деистов. Но, не довольствуясь этим, он строит принцип, по которому существующий мир есть вместе с тем и наилучший из всех возможных. Если представляется бесчисленное множество возможностей, то лишь одна из них может осуществиться посредством выбора. Наивысшее существо может поступать лишь по законам благости, согласной с мудростью, по законам справедливости. Творческий акт есть вместе с тем акт правосудия. Поэтому божество и творит тот мир, который имеет наибольшие права на существование, то есть наилучший из возможных миров. Всевозможные возражения против оптимизма, по мнению Лейбница, опровергаются простым указанием на существование мира. Раз божество избрало этот мировой порядок, а не другой, стало быть, он и есть наилучший из возможных[4 - Любопытно сравнить эту теорию с весьма сходными утверждениями эволюционистов, у которых роль божества играет механическое приспособление, создающее мир, наиболее приспособленный].
Здесь-то мы наконец и встречаемся со знаменитой теорией «предустановленной гармонии». Мировая гармония, по учению Лейбница, есть не что иное, как акт воли божества, превращающий физическую необходимость в необходимость моральную, управляющую всеми существами без различия. Каждая монада развивается собственными силами, но эти силы не только созданы, они избраны божеством. Развитие мира есть не только сохранение мира и действующих в нем сил, но и непрерывный творческий акт, устанавливающий гармонию между творцом и миром.
Здесь не место разбирать возражения, которые противопоставлялись системе Лейбница. Достаточно напомнить, что сильнейшим противником метафизической стороны этого учения явился Кант, а остроумнейшим оппонентом морального учения Лейбница был Вольтер со своим «Кандидом». Но для лучшего понимания оптимизма Лейбница не мешает еще привести пример, данный самим философом.
Аполлон предсказывает Сексту Тарквинию, что его преступление погубит царскую власть в Риме и самого Секста. Секст жалуется на это. Аполлон – божество, знающее все заранее, – посылает Секста к Юпитеру, – божеству, все предопределяющему, – и говорит при этом: «Знай, что боги делают каждого таким, каков он есть: волка – хищным, осла – глупым, льва – храбрым. Юпитер дал тебе злую душу, ты будешь действовать сообразно с твоей природой, и Юпитер поступит с тобою по делам твоим».
Секст является в Дельфы и умоляет самого Юпитера изменить его судьбу и улучшить его душу. Бог отвечает: «Откажись от Рима, ты станешь добрым и счастливым». Но тут Секст упирается, он не желает перестать быть тем, что он есть. Он добровольно избирает низкий поступок, который был предусмотрен и предопределен. Он совершает преступление, но зато гибнет сам, губит царскую власть и делает Рим великим и свободным. Конечно, раз Секст получил от природы злую душу, в решительную минуту не желающую «перестать быть собою», и раз Рим спасен гибелью Секста, то эта гибель сама по себе есть наименее возможное зло, и к результате остается наиболее возможное благо. Но почему боги сотворили волка хищным, а Секста – злым, и почему именно эта доля хищничества или злобы оказалась необходимою для наилучшего из миров? На эти и подобные вопросы учение Лейбница не дает удовлетворительного ответа.
Глава IX
Лейбниц и Петр Великий. – Последние годы жизни Лейбница.
Основание академии наук в Берлине окончательно сблизило Лейбница с королевой. Муж Софии Шарлотты мало интересовался философией Лейбница, но проект основания академии наук показался ему интересным. 18 марта 1700 года Фридрих III (в то время еще курфюрст) подписал декрет об основании академии и обсерватории. Два дня спустя Лейбниц был приглашен в Берлин, куда несколько раньше его приехала гостившая в Ганновере София Шарлотта. Кроме вопроса об академии, в Берлине были заняты свадебными торжествами: дочь курфюрста от первого брака выходила замуж. Для Фридриха III это было поводом к устройству необычайно пышных торжеств, длившихся четыре недели.
Из Парижа и Милана были нарочно выписаны певцы и танцоры; маскарады сменялись балами, балы – оперетками. София Шарлотта не вынесла такого продолжительного веселья и на время оставила Берлин. Лейбниц не мог уехать и писал ей:
«Был на оперетке: очень веселые арии. Даже такому профану в музыке, как я, это может нравиться. Вчера лишь в три часа ночи приехал в Лютценбург: веду образ жизни, который курфюрстина (мать Софии Шарлотты) называет распущенным. Я совершенно сбит с толку и вне своей стихии».
11 июля того же года, в день рождения Фридриха, была торжественно открыта Берлинская академия наук и Лейбниц назначен первым ее президентом. Не обошлось без новых празднеств и маскарадов. На этот раз маскарад был совсем особенный. Маркграф Христиан Людвиг изображал торговца и открыл лавочку, в которой продавал колбасу и копченый язык, маркграф Альберт танцевал на канате, граф Солмс прыгал через веревочку, один из принцев изображал фокусника. Это была настоящая балаганная пародия на версальских маркизов и пастушек. На этот раз и София Шарлотта веселилась от души, изображая докторшу, и самого Лейбница хотели нарядить астрологом, но он уперся и был очень рад, когда эту роль принял на себя граф Виттгенштейн. Лейбниц описал все это празднество немного юмористически, но с восторженными отзывами о Софии Шарлотте, и ей так понравилось это письмо, что она послала копии матери в Ганновер и герцогине Орлеанской в Версаль.
Лейбниц написал по случаю открытия академии два мемуара, в которых выставил национальное значение этого учреждения для всего немецкого мира. Не мешает заметить, что к этому времени Лейбниц значительно повернул в сторону национальных течений, стал резко восставать против «прошлогодних французских платьев» и вообще всякого рабского подражания Франции. Любопытно, что в последние годы XVII века Лейбниц все чаще пишет по-немецки, слог его постепенно освобождается от варварских латинских и французских примесей, приобретая вместе с этим мужественность и силу. Хотя свои главные сочинения он продолжает писать по-французски и по-латыни, но и одних немецких сочинений Лейбница, написанных в XVIII веке, было бы достаточно для того, чтобы составить славу крупного писателя, особенно если принять во внимание, что многие письма Лейбница стоят ученых трактатов, а из этих писем немало есть и немецких.
В своей второй записке об академии Лейбниц говорит, что новое учреждение должно быть пропитано немецким духом. Он не желает, чтобы Берлинская академия была копией Парижской. Своеобразной чертой немецкой академии должно быть, по мнению Лейбница, гармоничное сочетание теории с практикой. Наука должна быть не оторванной от жизни, но примененной к нуждам гражданского общества. Лейбниц порицает науку, основанную на простом любопытстве и жажде к знанию ради знания. Не следует, говорит он, производить бесплодные опыты, не находящие себе применений, что мы часто видим в Париже, в Лондоне и во Флоренции. В академии теория должна идти рука об руку с практикой, надо заботиться не только об искусствах и науках, но и о сельском хозяйстве, ремесле, словом – об улучшении всякого рода средств к прокормлению. У самого Лейбница дело, было соединено со словом, теория с практикой. Едва вступив на пост президента Берлинской академии, он взялся за такой чисто практический вопрос, как разведение шелковичных деревьев. Лейбниц был убежден в возможности устройства в Пруссии шелковичных плантаций и предпринял ряд опытов, впоследствии забытых и возобновленных лишь Фридрихом Великим. Чрезвычайно занимали Лейбница также вопросы практической медицины. Он был невысокого мнения о тогдашних немецких врачах (в Пруссии были почти одни военные врачи и хирурги), но следил за каждым медицинским открытием. Так, Лейбниц один из первых занялся вопросом о целебных свойствах привезенной из Америки ипекакуаны. Он энергично оспаривал известного Сталя, проповедовавшего утрированный «психический принцип» и относившийся с презрением к анатомии. Лейбниц, наоборот, считал анатомию основанием медицины. В эпоху, когда военное искусство считалось благороднейшим из всех, Лейбниц заявил, что медицинская наука выше военной, и говорил, что если бы врачи были в таком же почете, как великие полководцы, то, конечно, медицина стояла бы высоко.
Вопрос о народных школах также занимал Лейбница. В этом, как и в некоторых других случаях, его опередил бывший его учитель, иенский профессор Вейгель, который в 1696 году объехал всю Германию, изучая положение весьма жалких в то время протестантских народных школ. Вейгель, однако, не обратился к Лейбницу, на которого разгневался за то, что Лейбниц не поддержал присланного им проекта переименования созвездий по гербам владетельных домов. Через третьих лиц Лейбниц, однако, узнал о новом плане Вейгеля относительно преобразования народных школ, отнесся к этой мысли чрезвычайно сочувственно и пожалел о том, что Вейгель не обратился к нему. «Впрочем, – сказал Лейбниц, – кто меня знает только по моим изданным книгам, тот меня не знает». Вейгель в том же году умер, но Лейбниц продолжил его дело и много содействовал улучшению народного образования и в Пруссии, и в Ганновере.
Первые годы XVIII столетия было счастливейшей эпохой в жизни Лейбница. В 1700 году ему исполнилось пятьдесят четыре года. Он находился в зените своей славы, не должен был думать о насущном хлебе, был независим, мог спокойно предаваться своим любимым философским занятиям, и, что всего важнее, его жизнь согревалась высокой, чистой любовью женщины – вполне его достойной по уму, нежной и кроткой, без излишней чувствительности, которая свойственна многим немецким женщинам, смотревшей на мир просто и ясно. Любовь такой женщины, философские беседы с нею, чтение произведений других философов, особенно Бейля, – все это не могло не повлиять на деятельность самого Лейбница. Как раз в то время, когда Лейбниц возобновил связь со своей бывшей ученицей, он работал над системой «предустановленной гармонии» (1693—1696). Беседы с Софией Шарлоттой о скептических рассуждениях Бейля навели его на мысль написать полное изложение своей собственной системы. Он работал над «Монадологией» и над «Теодицеей»; в последнем труде прямо отразилось влияние великой женской души; но королева София Шарлотта не дожила до окончания этого труда.
Она медленно сгорала от хронической болезни и задолго до смерти привыкла к мысли о возможности умереть в молодости.
«Я на этот счет спокойна, – писала она Лейбницу еще в начале 1700 года. – Я убеждена, что будущего я должна менее бояться, чем настоящего. По опыту знаю, что мое тело подвержено страданиям, а будущее состояние души я не могу представить себе в таком печальном виде, как нас хотят уверить иные люди. Боязнь черта никогда еще мне не внушала страха к смерти. Вы знаете давно, сколько во всем этом есть истины, и мы будем с Вами весело говорить о предмете, который не может иметь серьезного значения для человека, подобного Вам, проникающего в причины вещей… Поспешите с приездом из милосердия к бедной Пёлльниц, которая теперь изучает математику и совсем потеряет голову, если Вы не придете к ней на помощь. Что касается меня, я довольствуюсь созерцанием фигур и чисел: все эти вещи для меня то же, что греческий язык. Только о единице (монаде) я, благодаря Вашим стараниям, имею маленькое понятие».
В начале 1705 года королева София Шарлотта поехала к матери. Лейбниц, против обыкновения, не мог сопровождать ее. В дороге она простудилась и после непродолжительной болезни 1 февраля 1705 года неожиданно для всех умерла. Внук ее, Фридрих Великий, сохранил в своих мемуарах трогательные подробности ее последних минут. Одна из ее придворных дам, видя, что королеве дурно, стала горько плакать.
– Не плачьте обо мне, – сказала умирающая, – я теперь счастлива: вскоре я буду в состоянии удовлетворить свою любознательность о первых причинах всех вещей, о пространстве, о бесконечности, обо всем, чего Лейбниц не мог мне объяснить, о бытии и о ничтожестве; а король, мой супруг, будет рад удобному предлогу обнаружить на моих похоронах свою любовь к блеску и роскоши.
Лейбниц был подавлен горем. Единственный раз в жизни ему изменило обычное спокойствие духа. Привязанность королевы к Лейбницу была настолько общеизвестна, глубокое горе философа стояло настолько выше всяких придворных сплетен и интриг, что посланники всех иностранных держав и другие лица сочли своим долгом сделать Лейбницу визиты с выражением соболезнования об испытанной им утрате.
Через несколько дней после получения горестного известия Лейбниц писал девице Пёлльниц:
«Я не плачу и не ропщу, но не знаю, что мне делать. Порою мне кажется, что смерть королевы – это мое сновидение: но, очнувшись, я слишком чувствую, что все это истина. Ваше горе не меньше моего, но Вы еще живее чувствуете, потому что Вы были подле нее… Мое письмо более философского характера, чем мое сердце… Почтить память лучшей из королев следует не мрачной тоской, а тем, что мы будем стремиться подражать ее идеалу».
Тогда же он пишет генералу Шуленбургу:
«Хотя ум мой говорит мне, что всякие жалобы напрасны и что лучше почитать память королевы, чем жалеть о ней, но моя сила воображения постоянно заставляет меня видеть королеву со всеми ее совершенствами и говорит мне, что она у нас отнята и что я потерял самое величайшее счастие, на какое мог рассчитывать, по человеческим соображениям, на всю свою жизнь».
Действительно, философ мог думать, что королева переживет его. Лейбниц был на тридцать лет старше Софии Шарлотты: когда она умерла, ему было почти 59 лет. В первые месяцы после ее смерти он не мог заниматься ни философией, ни наукой, бросил все; написал несколько писем близким людям, затем прекратил даже свою обширную корреспонденцию и жил воспоминаниями о ней. Лишь в июле Лейбниц несколько приходит в себя и пишет письма; в каждом письме опять звучит скорбь. Он пишет (по-латыни) богослову Готтону в Кембридж:
«Моя обычная переписка с Вами и другими друзьями потерпела перерыв вследствие смерти королевы. Она была ко мне необыкновенно привязана и часто искала моего общества; таким образом, я часто наслаждался беседами с этой королевой, самой талантливой и самой приветливой из всех когда-либо живших. Избалованный этим драгоценным счастьем, я не только разделял всеобщую печаль, но, по причинам самого частного характера, испытал сильнейшее горе… Я был близок к опаснейшей болезни и едва оправился. Невероятны были у королевы способности к пониманию труднейших вещей и стремление к расширению знаний, и она со мною вела беседы, в которых еще более могла бы удовлетворить свою любознательность, к немалой пользе и для общества, если бы смерть не прервала все».
С мая по октябрь Лейбниц был постоянно болен. В ноябре он приехал в Берлин, где король Фридрих, как бы исполняя предсмертные слова жены, опять устроил пышные празднества.
Лейбниц против воли должен был приходить, но уходил расстроенный, негодующий.
Он описал королеву и в прозе, и в лучшем из своих стихотворений.
«Она ни к кому не относилась пренебрежительно или резко и не любила, чтобы другие так относились в ее присутствии. Приветливость ее очаровывала всех… Она редко гневалась и не знала чувства мщения; рассердить ее было трудно, примирить – легко; о ней говорили, что она по характеру голубка, так мало в ней было желчи и горечи. Ложь и клевета еще в детстве были ей противны. Радовать всех и всех видеть счастливыми – в этом была радость ее сердца; чужое несчастье было ее горем».
В поэтической форме Лейбниц пытался воспроизвести свое учение о душе, вытекающее из оснований его философии.
«Это солнце стало невидимым, – пишет он, – свет высокого ума, блеск истинной добродетели, яркое сияние красоты – все погасло! Каждый дух представляет собою целое здание вселенной, как будто отраженное в одном зеркале… Он – изображение творения и был его целью… Что такое истинная любовь, как не наслаждение совершенством того, что мы любим?»
Но главный литературный памятник Софии Шарлотте поставил Лейбниц в своей «Теодицее».
Глава VIII
Философское учение Лейбница.
В последнем десятилетии XVII века (1695—1697) был напечатан «Исторический и критический словарь» Бейля, получивший прозвание «библии скептицизма», – книга, произведшая огромное впечатление на тогдашний ученый мир и на публику и оказавшая значительное влияние на большую часть писателей XVIII столетия. Две основные идеи господствуют в этом сочинении: начало религиозной терпимости и мысль, что огромное большинство догматических положений как богословских, так и чисто философских, приводит к неразрешимым противоречиям и потому должны быть признаваемы более или менее сомнительными.
Многие из мыслей Бейля произвели глубокое впечатление на Софию Шарлотту, и, по ее просьбе, Лейбниц задумал написать опровержение этих скептических воззрений. По вопросу о религиозной терпимости мнения Бейля совпадали с его собственными: но скептицизм подкапывал основы его оптимистического миросозерцания. Бороться с таким сильным умом казалось Лейбницу долгом совести, и просьбы Софии Шарлотты ускорили его решимость. Сам Лейбниц пишет об этом в предисловии к «Теодицее»:
«Беседы со многими учеными… но, главным образом, с одною из величайших и совершеннейших монархинь привели автора к этому решению… Королева настоятельно требовала, чтобы он исполнил свое давнишнее намерение; некоторые друзья присоединились к ее голосу… Многие препятствия замедлили работу, и более всего смерть несравненной королевы. Между тем, Бейль подвергся нападкам многих замечательных людей. – Он отвечал подробно и всегда весьма умно. Я внимательно следил за этим спором и сам почти был увлечен им».
Чтобы понять «Теодицею» Лейбница, необходимо ознакомиться с основными началами его философии, с его учением о монадах. Лишь поверхностная и близорукая критика могла утверждать, что между «Монадологией» и «Теодицеей» нет никакой связи, что у Лейбница философия сама по себе, а богословие само по себе. Были даже критики, утверждавшие, что сам Лейбниц, в сущности, пантеист вроде Спинозы, что он писал «Теодицею», сам себе не веря или желая себя утешить после смерти королевы. Такое раздвоение или самообольщение настолько чуждо целостной и гармоничной натуре Лейбница, что почти не верится, чтобы люди, рассуждающие таким образом, читали то, о чем они пишут. А между тем в числе таких критиков есть даже переводчики и усердные комментаторы Лейбница, такие, например, как новейший писатель Гоббс.
Монадология Лейбница есть первая попытка основать учение, известное в наше время под именем эволюционизма, или теории постепенного развития. Было уже указано на теснейшую связь этой теории с открытым Лейбницем методом дифференциального и интегрального исчисления. Развитие есть накопление или суммирование бесконечно малых изменений, подверженных известному закону и в конце концов дающих «конечное» или заметное изменение. Недаром новейшие эволюционисты избрали выражения «дифференциация» и «интеграция» для обозначения основных процессов развития. Конечно, возможны и пантеистические, и даже атеистические миросозерцания, признающие гипотезу развития; но в том виде, как она обоснована Лейбницем, самым естественным увенчанием системы является теизм, и притом в монотеистической форме, потому что, по учению Лейбница, божество есть не что иное, как наиболее совершенная из всех монад.
Что такое монада? Это не «единица» в арифметическом смысле слова, потому что в арифметике единица есть понятие относительное: данная единица состоит из меньших единиц, всякая арифметическая единица делима. «Не будь этого, – писал Лейбниц королеве Софии Шарлотте, – в арифметике, к величайшей радости школьников, совсем не существовало бы дробей». Монада – не атом, как его понимали древние атомисты, которых Лейбниц называет «корпускулярными философами», от слова corpusculus – тельце, атом. Атомы Демокрита и Эпикура, Гассенди и Гоббса материальны, поэтому протяженны и делимы, их только по недоразумению называют атомами (неделимыми). Монады Лейбница – это «метафизические» единицы, абсолютно неделимые, подобно математическим точкам. Сущность монады составляет не число, а сила, и, если метафизический язык Лейбница перевести, насколько это возможно, на язык современной науки, то окажется, что монады – не что иное, как центры сил. Лейбниц определяет их еще как «атомы субстанции». Но «субстанция» Лейбница не есть протяженная субстанция Декарта. Все субстанции, по Лейбницу, суть силы. Монады имеют существенно динамический, и притом телеологический (целесообразный) характер. Они не только неделимые единицы, но и индивидуумы, существа вполне самостоятельные, первобытные и способные к непрерывному развитию. Это учение прямо противоположно пантеизму, то есть всеобъемлющему единому принципу, но нимало не противоречит монотеизму, конечно, существенно отличающемуся от канонических учений. В то же время оно резко отличается и от дуалистической философии Декарта, проводящей непреодолимую пограничную черту между духом и материей. Господствующее в философии Лейбница понятие силы является в ней посредствующим звеном между миром материальным и духовным: сила не есть ни дух, ни материя, но принцип, без которого немыслимо ни духовное, ни материальное. Монада включает в себя и духовный, и материальный принципы. Монады не могут ни возникнуть, ни погибнуть. Лейбниц называет их inеnеrables et incorruptibles. Они так же древни, как сам мир; ни одна не возникла раньше другой, ни одна не исчезла и не исчезнет. «Поэтому сумма вселенной всегда одна и та же». Сотворение монады было бы необъяснимым чудом. Из принципа постоянства и сохранения монады вытекает принцип: «Сумма всех движущих сил природы постоянна, в природе всегда сохраняется одно и то же количество живой силы». Это утверждение Лейбница – первый и неполный шаг к установлению принципа сохранения энергии. (Ньютон, в свою очередь, содействовал открытию этого принципа своим законом действия и противодействия).
Монады не тожественны между собою по природе, но, наоборот, существенно различны. Мир состоит из непрерывного ряда монад, различных между собою по степени совершенства, но в то же время бесконечно разнообразных. В природе нет скачков, есть лишь постепенные переходы. Тоны гаммы – не единственно возможные музыкальные звуки: между двумя смежными тонами можно вставить бесконечное число промежуточных тонов. Лейбниц не допускает существования абсолютно пустого пространства и сообразно с этим полагает, что и между монадами нет пустых промежутков, нет «метафизической» пустоты.
Между природой и духом, между бессознательным существом и сознательным нет противоположности или непроходимой бездны, но есть бесчисленное множество переходных ступеней. Эта идея послужила для Лейбница источником для открытия весьма важного психологического принципа, сохранившего значение до новейшего времени и послужившего источником философского вдохновения для Гартмана и многих модных философов. Лейбниц первым установил понятие об апперцепции в отличие от перцепции, о сознании в отличие от бессознательного восприятия или представления (оба эти термина, взятые сами по себе, не совсем точно передают понятие о перцепции). Сам Лейбниц дает такое определение: «Перцепция есть внутреннее состояние монады как обладающей представлением внешнего мира (по Лейбницу, перцепция свойственна всем монадам). Апперцепция есть сознание (conscience) или рефлексивное познание этого внутреннего состояния (connaissance reflexive de cet еtat intеrieur), и это сознание дано не всем монадам». Самосознающая монада, в противоположность монаде, обладающей лишь неясною силою представления, обладает ясным представлением. Такая сознательная монада и есть дух. Помимо сознательных представлений есть, стало быть, представления бессознательные. (Это учение и послужило исходным пунктом для всех позднейших теорий «бессознательного»).
Животные – не машины, не автоматы, какими их считала школа Декарта; подобно человеку, они обладают душевными способностями, но не имеют духовной жизни; они – индивидуумы, но не личности. Душа животного может представлять, чувствовать, но не знать. Животные обладают памятью; они комбинируют впечатления прошлого опыта; но они неспособны к суждению. Собака, испытавшая удар палки, боится палки, потому что соединяет с известным зрительным образом воспоминание об испытанной боли, но она не рассуждает и не имеет идеи о причинной связи между ударом и палкою. (Это утверждение Лейбница подверглось тонкой критике со стороны скептика Бейля).
Теория бессознательных представлений, которые могут быть бесконечно малыми (perceptions pentes),– это учение, состоящее в очевидной связи и с монадологией, и с дифференциальным исчислением, – развито Лейбницем с большою силою, и, исходя из него, он отвергает два крайних учения, из которых одно считало дух гладкой доской (tabula rasa), на которой внешний опыт, при посредстве органов чувств, пишет все, что ему вздумается, тоща как другое признало существование вполне готовых врожденных идей. Обе эти школы, по мнению Лейбница, заблуждались потому, что не имели понятия о существовании бессознательных представлений. Рационалисты ошибались, признавая существование первичных сознательных представлений; сенсуалисты заблуждались, думая, что вообще никаких первичных представлений нет и быть не может. Думать, что все врожденное непременно познаётся, есть, по мнению Лейбница, крупная философская ошибка. Врожденное сначала имеет смутный характер; нередко требуется много внимания и развития для того, чтобы сознать это врожденное. Между врожденным и познанным такое же множество переходных ступеней, как между способностью и виртуозностью.
Развивая далее свое учение, Лейбниц пришел к важной мысли, что бессознательные представления составляют даже в самом развитом духовном существовании дополнение представлений сознательных. Дух человека никогда не вполне бездеятелен, даже во время самого глубокого сна. Как только прекращается деятельность сознательных представлений, бессознательная душевная жизнь тотчас вступает в свои права, оставаясь тогда единственно возможной.
Теория непрерывности развития приводит Лейбница к утверждению, что бессознательные представления отличаются от сознательных лишь по степени; спускаясь постепенно вниз, он находит, что сознательные представления могут дойти до такой бесконечно малой величины, когда они становятся недоступными сознанию. «Малые перцепции», однако, играют гораздо большую роль, чем можно думать. «Они образуют это нечто, эти вкусы, эти образы, которые в целом ясны, но в частях смутны… эту связь, соединяющую каждое существо с остальной вселенной». Такова психология Лейбница. Из нее непосредственно вытекает его своеобразное учение о причинности и о свободе воли. Здесь, как и во всей философии Лейбница, мы видим стремление устранить роковые противоречия путем «гармонического» сочетания противоречащих принципов. Лейбниц рассекает гордиев узел, заявляя, что всякая воля определена законом причинности. Вполне безусловной воли не существует. Воля есть врожденное, присущее душе стремление. Нелепо (по мнению Лейбница) утверждать, что наше хотение определено опять-таки хотением. Мы не «хотим хотеть», но «хотим действовать»; в противном случае можно было бы идти до бесконечности, то есть сказать, что мы «хотим хотеть хотеть» и так далее, а это не более чем пустое сочетание слов, потому что при такой удаляющейся в бесконечность воле мы никогда не дошли бы до ее осуществления. Отвергая так называемое безразличное состояние воли, Лейбниц применяет к нему басню об осле, который умер с голода между двумя стогами сена, колеблясь в выборе между тем и другим. Этот осел есть нечто нелепое и невозможное. На самом деле ни две половины вселенной, ни две половины самого осла не абсолютно равны и не одинаковы расположены, а потому осел непременно пойдет в ту или в другую сторону. То же относится и к человеческой воле, хотя она определяется более сложными мотивами, иногда до того сложными, что наш разум не в состоянии охватить их в целом и анализировать по частям. Свобода человеческой воли есть независимость, но не произвол. Независимость эта состоит, по Лейбницу, в том, что человек, живя сознательной, духовной жизнью, находится под влиянием бесчисленных склонностей и стремлений, из которых лишь часть представляется его сознанию, но все действуют совокупно, причем их общая равнодействующая и определяет то или иное направление нашей деятельности. «Если я в данный момент пишу эти строки, – говорит Лейбниц, – этот мой акт есть следствие „склонности“, условия которой коренятся весьма глубоко в моей прошлой душевной жизни. В этом смысле мой настоящий акт вполне определен и мотивирован. Но разве из этого следует, что он необходим в том смысле, что я не мог бы желать во всякую минуту бросить писать, если бы захотел это сделать? Стоит поставить этот вопрос, чтобы отвергнуть такую необходимость».
Здесь Лейбниц коренным образом расходится и с защитниками теории абсолютной свободы воли, и с детерминистами, которые повторяют изречение Спинозы: «Человек, полагающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который вообразил бы, что он хочет лететь».
Из предшествующего можно догадаться, что для доказательства бытия верховного Существа Лейбниц прибегает к доводам так называемого «космологического характера». Существование мира, по мнению Лейбница, само по себе не могло бы доказать существование Бога; последнее выводится из наличия мирового порядка. Бесчисленные монады – существа, вполне независимые между собою, развивающиеся каждая по закону своей индивидуальности. Каким же образом их совместное существование дает не хаос, а порядок? По мнению Лейбница, это объяснимо лишь допущением единой всеобщей причины, направляющей ход вещей. Другое доказательство состоит в том, что монады представляют бесчисленные ступени развития, поэтому, считает Лейбниц, должна быть высшая ступень. Эта наивысшая монада и есть Божество. В качестве наивысшей монады оно обладает и наивысшей свободой воли, наивысшим самоопределением. Подобно тому, как растение не может познать животное, а животное не может познать человека, так и нашему уму недоступно даже приблизительное познание наивысшей монады. Мы в состоянии иметь о ней лишь смутные и неясные представления, можем понять ее совершенства лишь по аналогии, сравнивая себя с существами, которые ниже нас.
Все монады, даже самая низшая, вполне независимы по своей деятельности, но не по своему существованию. Они действуют собственной силой, но сила эта создана высшею монадою – божеством. Божество относится поэтому к монадам, во-первых, как высшая сила к низшим; во-вторых, – как творец к своим созданиям. Как наивысшая монада божество есть идеал, конечная цель, к которой стремятся все прочие монады; как творческое начало оно есть конечная причина, производящая все остальные. В качестве конечной причины божество обусловливает закон механической причинности; в качестве идеала оно сознает, своею мудростью и благостью, нравственный закон. Механик сооружает машину, правитель мира устраивает государство. Поэтому мир есть не только совершеннейший из миров по закону физической причинности, но и наилучший из возможных миров в нормальном отношении. Здесь мы видим коренной источник оптимизма Лейбница. Мировой порядок есть действие могущества и мудрости совершеннейшего существа; это утверждение ставит Лейбница в ряды деистов. Но, не довольствуясь этим, он строит принцип, по которому существующий мир есть вместе с тем и наилучший из всех возможных. Если представляется бесчисленное множество возможностей, то лишь одна из них может осуществиться посредством выбора. Наивысшее существо может поступать лишь по законам благости, согласной с мудростью, по законам справедливости. Творческий акт есть вместе с тем акт правосудия. Поэтому божество и творит тот мир, который имеет наибольшие права на существование, то есть наилучший из возможных миров. Всевозможные возражения против оптимизма, по мнению Лейбница, опровергаются простым указанием на существование мира. Раз божество избрало этот мировой порядок, а не другой, стало быть, он и есть наилучший из возможных[4 - Любопытно сравнить эту теорию с весьма сходными утверждениями эволюционистов, у которых роль божества играет механическое приспособление, создающее мир, наиболее приспособленный].
Здесь-то мы наконец и встречаемся со знаменитой теорией «предустановленной гармонии». Мировая гармония, по учению Лейбница, есть не что иное, как акт воли божества, превращающий физическую необходимость в необходимость моральную, управляющую всеми существами без различия. Каждая монада развивается собственными силами, но эти силы не только созданы, они избраны божеством. Развитие мира есть не только сохранение мира и действующих в нем сил, но и непрерывный творческий акт, устанавливающий гармонию между творцом и миром.
Здесь не место разбирать возражения, которые противопоставлялись системе Лейбница. Достаточно напомнить, что сильнейшим противником метафизической стороны этого учения явился Кант, а остроумнейшим оппонентом морального учения Лейбница был Вольтер со своим «Кандидом». Но для лучшего понимания оптимизма Лейбница не мешает еще привести пример, данный самим философом.
Аполлон предсказывает Сексту Тарквинию, что его преступление погубит царскую власть в Риме и самого Секста. Секст жалуется на это. Аполлон – божество, знающее все заранее, – посылает Секста к Юпитеру, – божеству, все предопределяющему, – и говорит при этом: «Знай, что боги делают каждого таким, каков он есть: волка – хищным, осла – глупым, льва – храбрым. Юпитер дал тебе злую душу, ты будешь действовать сообразно с твоей природой, и Юпитер поступит с тобою по делам твоим».
Секст является в Дельфы и умоляет самого Юпитера изменить его судьбу и улучшить его душу. Бог отвечает: «Откажись от Рима, ты станешь добрым и счастливым». Но тут Секст упирается, он не желает перестать быть тем, что он есть. Он добровольно избирает низкий поступок, который был предусмотрен и предопределен. Он совершает преступление, но зато гибнет сам, губит царскую власть и делает Рим великим и свободным. Конечно, раз Секст получил от природы злую душу, в решительную минуту не желающую «перестать быть собою», и раз Рим спасен гибелью Секста, то эта гибель сама по себе есть наименее возможное зло, и к результате остается наиболее возможное благо. Но почему боги сотворили волка хищным, а Секста – злым, и почему именно эта доля хищничества или злобы оказалась необходимою для наилучшего из миров? На эти и подобные вопросы учение Лейбница не дает удовлетворительного ответа.
Глава IX
Лейбниц и Петр Великий. – Последние годы жизни Лейбница.