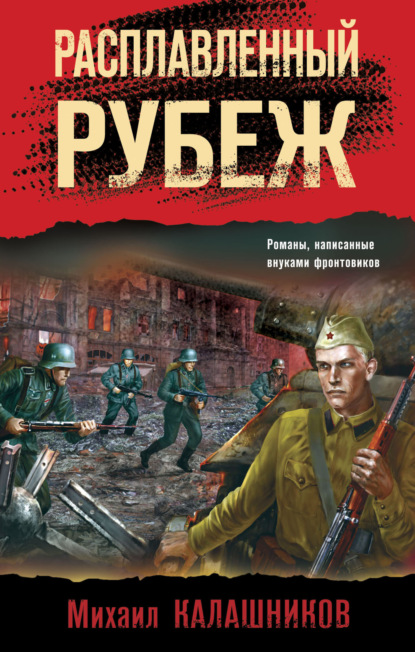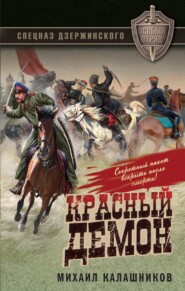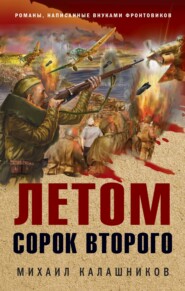По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расплавленный рубеж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Славянская речь впервые зазвучала на берегах реки еще на заре новой эры. Под именем венетов пришли сюда люди и поселились на столетие. Вырыли полуземлянки и обшили в них стены тесом, возделали землю, с молитвой уложили в нее злак, закинули в реку невод, а из прибрежной глины вылепили сосуд. А вскоре наступили времена великих народных переселений, которые коснулись и этой местности. Гуннская волна разогнала славян, они ушли на север, в угро-финские земли, и смешались с аборигенами. Через четыре столетия после гуннов славяне вернулись на реку, но уже не как венеты, а как вятичи. С запада, с берегов Десны, Сейма и Северского Донца пришли собратья вятичей, такие же славяне – северяне. Они дали здешним рекам и урочищам свои названия: Елец, Усмань, Овчеруч, Воронеж.
Степь пропускала через себя новые кочевые орды, то аварскую, то венгерскую, но славяне сидели здесь крепко: основали черноземную Атлантиду – величественный Вантит. Опять плели корзины, ковали жало для стрелы и рала, встречали торговых людей из далекой магометанской стороны, настороженно и часто не по доброй воле принимали заморскую княжью веру и снова, утерев подолом мокрый лоб, с любовью и новой молитвой клали жито в чернозем. Отгоняя печенега и хазарина, прожили здесь славяне до половецких времен, но не столько кипчаки опустошили эту землю, как «свой брат», соседний князь.
Ушли вятичи и северяне из Дикого поля в дикий северный лес, города и селения пожгли либо просто покинули. И вновь вернулись в самый лихой момент – в монгольское время. Не побоялись хищного соседа, как не робели перед ним и прежде, во времена других кочевавших в Поле степняков. Земля не пустовала, и народ в ней был, и перезвон колокольный звучал. Пела тугая тетива, свистел аркан, рассекала воздух сабля – учились славяне новой тактике, как одолеть монголов их же оружием. Ковалась в вольных просторах будущая общность для донского казачества, что уйдет потом ниже по Дону, подальше от власти, поближе к вольнице.
4
Как жаль, что в транспортерах нет крыш. Тяжелая черноземная пыль падает клубами на плечи, головы и оружие. Хотя, будь крыша, в этой консервной банке люди умерли бы от жары. Шлем раскалился на солнце так, что невозможно дышать. Во фляжке почти пусто. Быстрее бы Дон. Те, кто смогут победить в бою, вволю напьются.
Солдаты расселись спинами к бронированным бортам машины. Оружие зажато меж колен, приклады на кочках стукаются о стальное дно. Под ногами перекатывается армейское барахло, просыпанные патроны. С краю от двери сидит юноша, ефрейтор Вольф, Малыш Вилли, как его зовут в роте. Он и правда невелик ростом, но крепок и может, навесив на себя гирлянду пулеметных лент, идти без устали в гору. Ему едва за двадцать, воюет уже два года. Во Франции их дивизию отправили не через Бельгию, а напрямик – штурмовать Линию. Это были первые бои Малыша Вилли, самые тяжелые.
В роте с Малышом служили тогда два фельдфебеля, оба ветераны Великой войны. Спасибо им. Они многому научили. Старик Берковски, правда, застал самый конец той бойни, а вот старик Кропп начал войну с Вердена. Как и отец самого Вилли. Вольф-старший потерял там левую ступню, и ядовитое облако вдобавок выжгло ему легкие. Но девушка, что ждала его дома, не отказалась от него, и они поженились. Вилли было четыре, когда ему стала понятна ругань матери.
– Зачем ты наплодил их? – кричала она мужу, тыча в сторону Вилли и его старшей сестры. – Зачем они нужны были тебе, развалина ты этакая? Осколок человека!
– Прости, дорогая, что желал этих ублюдков! Прости, что не сдох «там» или в госпитале. Прости, что любил тебя и хотел подарить хоть какое-то счастье.
– Лучше бы ты подарил нам немного еды.
Отец, проклиная все, напяливал на себя потертый мундир с одинокой наградой на груди, брал под мышки костыли и шел к гостинице просить милостыню. Мать крупно натирала брюкву, смачивала ее каким-то суррогатным маслом и, раздав детям, шла работать за гроши. Потом Вилли узнал, что она приторговывала собой. Отец кричал об этом на весь их крохотный закуток, и каждый раз, когда это случалось, мать говорила:
– Ну и чего ты разошелся? В первый раз, что ли? Что изменилось с прошлого случая? Попривык бы уже.
Отец не свыкался. Как не мог свыкнуться с горечью об утраченной стране с великим прошлым и туманным будущим. Редко он говорил об этом со своими детьми, и Вилли думал тогда про себя: «Мы все вернем, отец», – но вслух ничего не говорил.
Как бы отец встретил фюрера, если бы дожил до светлых времен? Наверняка бы боготворил. Фюрер дал работу, дал стабильность, дал таким, как старший Вольф, достойную пенсию. Надежды и чаянья скоро стали обыденностью.
И он, Малыш Вилли, один из воплотителей этой обыденности. На его руках кровь как минимум дюжины жабоедов. Тех, порубленных в бетонном бункере его гранатами, он видел точно. Плюс те, которых достал из карабина, но их сосчитать сложнее – в бою пули летят не только из карабина Малыша Вилли. Это его личный вклад в унижение Франции, главной виновницы бед его семьи и его государства. Жаль, там запрещали вести себя как подобает настоящему солдату, придумали нормы и правила. Они стесняли солдатскую душу, не давали ощутить себя хозяевами на завоеванной земле. Всего этого здесь, на Восточном фронте, нет. Война тут истинная. С узаконенным грабежом, с безнаказанным убийством. Такой войны не было со времен Валленштейна. Мы ворвемся в этот город и устроим в нем «Магдебургскую свадьбу».
В дивизию Вилли прибыл недавно, в апреле, а на фронте она с начала восточной кампании. Из крупных побед – бои под Киевом, окружение армий красных в Брянске и Вязьме. Люди здесь опытные. Напротив Вилли в транспортере сидит угрюмец Гуннор. Он то ли швед, то ли датчанин. До мобилизации работал в порту где-то на севере. На груди его красная нашивка – медаль «За зимнюю кампанию». Сами награжденные зовут ее «мороженое мясо», и за цвет колодки, и… они знают, над чем шутят. Гуннор прибыл прямиком с курорта. На Крите он провел четыре месяца, залечивая больные ноги и пытаясь избавиться от кошмаров, мучивших его по ночам. До конца вылечить ни то ни другое не удалось. Гуннор, когда спит, часто вздрагивает, порою кричит. Сейчас он дремлет. Или просто притворяется, зажмурив глаза.
Вилли не хочется говорить, ведь, когда открываешь рот, в него попадает въедливая пыль. Но скучно, молчать надоело. К тому же он заметил: чем ближе дело к бою, тем сильнее его тянет на разговоры.
– Гуннор, как погодка на Крите? Жарче, чем здесь? – дернув сослуживца за штанину, прокричал Вилли.
Гуннор открыл глаза, немного пришел в себя, похоже, он и вправду спал.
– Нет, на Крите рай. Это еще не жара, Малыш. Вот когда заговорят пушки красных, ты почуешь температуру.
– Ты был во Франции, Гуннор? – не унимался Вилли.
– В Дюнкерке.
– С кем сложнее воевать? Наш старик Кропп говорил, что ему тяжелее было под Верденом. А на Восточном фронте, сказал Кропп, был санаторий: стреляли редко и русские с неохотой шли в атаку.
– Мне тяжело судить Кроппа, ту войну я не застал, мне было тогда десять лет. Верден, конечно, был адом, иначе о нем столько не говорили бы до сих пор. Но в эту войну все изменилось. Франция сдалась через месяц. Где их Верден? Линия не стала новым Верденом. А красные… Боюсь представить, сколько они еще продержатся.
– Как только мы перекроем Северный морской путь и отрежем дорогу в Персию, им без английской поддержки крышка. Они воюют заокеанским оружием и жрут калифорнийский яичный порошок. Мы отберем у них американские танки, отберем тушенку, и они передохнут от голода.
Гуннор слабо улыбнулся:
– Не верь всему, что пишет тебе агитка, Малыш. А Ленинград, кстати, до сих пор не «передох», хотя не знаю, как они вынесли эту зиму. Мы пережили ее в теплых избах, на усиленных пайках. А как они…
Сосед приподнялся и выглянул за борт транспортера:
– Эй, парни, кто еще не видел русских – вот они, рядом.
Солдаты почти поголовно встали со своих мест, сидеть остался один Гуннор. Русские и правда за бортом. Уступили дорогу транспортерам, идут и едут по обочинам. Это те, что не поспели к переправе, транспортеры их обгоняют. Некоторые покидают свои грузовики, спрыгивают с повозок, торопятся укрыться в придорожных канавах. Другие идут, не меняя темпа, устало смотрят из-под припорошенных пылью бровей. В глазах безнадега: плен так плен, не тронете, так дальше пойдем, будем идти, пока не упремся, и там снова будем с вами биться, а пока – ваша взяла.
Вереница русских на обочинах закончилась, солдаты снова расселись по местам. Только один любопытный еще не садится, взгляд его бежит впереди транспортера. Иногда он комментирует:
– Какая-то деревенька. Кажется, здесь никого. Сейчас под уклон пойдем, долина виднеется. В низине Дон! Вон, вон его петля!
Вольф не выдерживает и тоже встает. Посреди глубокой долины тянется голубая лента реки. Под лучами солнца Дон искрится, зовет окунуть в воду ладони, потное пыльное тело.
Гуннор дернул Вилли за полу мундира.
– Присядь, Малыш, спрячься. У русских хорошие снайперы, можешь и не доехать до берега.
Движок натужно взвывает, колеса транспортера вязнут в зыбком грунте. Фельдфебель звонко стукнул в стальную перегородку, подавая сигнал. Солдаты встрепенулись, крепче обхватили оружие, ноги заскользили по днищу, будто разогревая подошвы перед стартом. Скоро место соприкосновения с противником. Грохнули два орудия. Еще десяток метров прокрутили колеса транспортера. Все, броневик встал. На выход! На выход!
Под ногами песок, поросший хилой редкой травой и каким-то кустарником. Нужно перебраться вот сюда, за эту вытянутую дюну, здесь надежно. Что там вопит лейтенант? Да знаем мы, знаем: к мосту, надо его взять, пока не подорвали русские. Танки работают по левому берегу. Они разогнали людской муравейник, что кишел за мостом, русские расползлись по щелям и норам. Остался там хоть кто-нибудь? А нет, вот свистнуло над ухом, огрызаются, значит, повоюем.
Пулеметы, установленные в транспортерах, поливали огнем берег. Грузовики подвезли батарею, и прислуга живо растянула сошки орудий, уперев их в песок. Пушки включились в бой, на левом берегу русские приутихли.
5
В земляной нише окопа вздрагивала пустая стеклянная банка. Утром в ней пожилая крестьянка принесла черешню, угостила Романа. Банка звенела, билась боками о фляжку и поставленную на попа гранату, звон ее тонул в бесконечной стрельбе. Посуду солдат так и не успел вернуть, теперь она своим «неуставным» видом портила воинскую строгость стрелкового окопчика.
Передергивая затвор, Роман на короткий миг отрывался от прицельной рамки и видел затылок Лямзина, его скошенную набок пилотку, выглядывающую из-под нее мокрую плешь. «Светку» свою Лямзин успел обменять у Опоркова на автомат. Круглый диск автомата утонул в длинных пальцах Лямзина, и сам коротенький автомат выглядел детской игрушкой. Пуская длинные очереди, он водил стволом по сторонам, осматривался кругом, вопрошая: «Ну что ж вы, ребятки? Вдарим дружней». Таких же активных, как Лямзин, было маловато. Люди пригибались, прячась от немецкого пулеметного огня. Хлопки танковых пушек обрушивали их на дно стрелковых ячеек. Когда к стволам танков прибавилась батарея, справа крикнули:
– Отходить! Приказ ротного!.. Отползать за бугор!
Слова передавались по цепочке. Приказ там был или не приказ, разбираться некогда. Рота перешла увал: лица бледные, глаза безумные, до краев полные страху, дыхание отрывистое, нервное, будто глотки пережаты.
– Кто ротного видел? – передвигаясь на корточках, спрашивал замкомвзвода.
– Видел, как его ранило, – отозвался кто-то с неохотой.
– Сальников, почему без оружия? – взял командирский тон Лямзин.
– Да я, – поднял виноватый и испуганный взгляд боец, – винтовку бросил, Парамонова раненого тащил… Потом его это… добило.
– Так чего за оружием не вернулся?
– Далековато было.
Лямзин смазал Сальникова по скуле. Даже не вполсилы, так, в четверть. Голова Сальникова мотнулась: