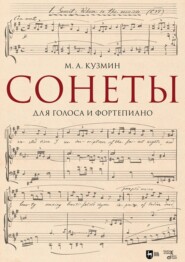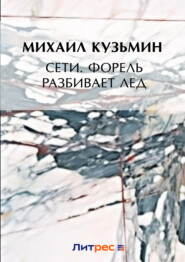По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Какое же у воробьев имение?
Занялись замечательной торговлей:
Все продаем и ничего не покупаем.
Присутствуют его постоянные мотивы: смирение перед судьбой, радость бедного очага, готовность к смерти и небоязнь ее:
Ну что ж? Заплачу, как тебя обниму.
Что есть в суме, с тем и пойду.
Сохранились воспоминания о проходной комнате в коммунальной квартире с голой лампочкой без абажура, но с неизменным самоваром, за которым обаятельный и радушный хозяин угощает литературную молодежь чаем (к чаю приносили кто что мог) и захватывающе увлекательной беседой.
В последние годы Кузмин тяжело болел. Умер он в больнице, 1 марта 1936 года, похоронен на Волковском кладбище.
II
«Противоречия» кузминского мира складываются в ощущение богатства и «пестроты» жизни. Удачно суммировал эти свойства поэзии Кузмина Вл. Марков, один из наиболее глубоких ее исследователей, в статье, вошедшей б третий том «Собрания стихотворений» (Мюнхен, 1978): «Получается впечатление взрыхленности, яркости, краски, блеска, переклички, – и, в результате, движения». «Поэзию Кузмина можно назвать поэзией протекания, красочной фактуры и свободы».
До сих пор иногда еще спорят, был ли Кузмин символистом или акмеистом или ни тем, ни другим – Ахматова, когда-то считавшая Кузмина учителем, в последние годы жизни решительно от него открещивалась; она, в частности, с осуждением говорила о кузминской иронии: «У нас – у Коли, например (речь идет о Н. Гумилеве. – Е. Е.), – все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки». В его кругу «над всем подсмеивались и издевались».
Конечно, разница тут заметна. К примеру, гумилевское «леопарды показываются обыкновенно ночью» было вполне «всерьез». Так же очевидно, что это не могло быть «всерьез» для Кузмина и могло ему казаться «игрушками», при всей симпатии к храброму путешественнику.
Еще более была неприемлема для Кузмина серьезность и торжественность, с которой Гумилев играл роль «синдика» в «Цехе поэтов». Этой «серьезности» у Кузмина не было. Правильнее, наверно, говорить именно о его неполной серьезности (в поведении и произведениях), чем о собственно иронии. Можно подобрать какие-то приблизительные синонимы – шутка, игра, насмешка, веселость и пр. («Веселость едкая литературной шутки»). И конечно, все это никак не соединимо с «упрямым достоинством акмеизма».
Напомню, что символизм – особенно на той поздней стадии, когда Кузмин входит в его круг, – был отличен от раннего символизма и, конечно, от того символизма, каким он предстал как в бессодержательных декларациях Гумилева и Городецкого 1913 года, так и в ярких полемических статьях Мандельштама разных лет.
У Вяч. Иванова определенно формируется как один из основополагающих принципов символизма – «принцип верности вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем». Символ должен выразить одновременно и всю полноту конкретного материального плана образа, и уходящий далеко «по вертикали» идеальный смысл тех же явлений. Образ-символ должен был осуществлять то сосредоточение абсолютного в единичном, о котором писал Вл. Соловьев: «…для того, чтобы уловить и навеки идеально закрепить единичное явление, необходимо сосредоточить на нем все силы души и тем самым почувствовать сосредоточенные в нем силы бытия; нужно признать его безусловную ценность, увидеть в нем не что-нибудь, а фокус всего, единственный источник абсолютного».
Если собрать воедино высказывания Вяч. Иванова о том, каким видится ему идеальный художник, мы, пожалуй, сложим как раз портрет М. Кузмина: это художник-«эхо», который прислушивается к бытию, не искажая форм данности, не налагая свою волю на поверхность вещей; и чем с большим доверием, чем внимательней и смиренней прислушается художник к предметной данности мира, тем явственней проступит ее истинный смысл. Задача такого художника – радостное послушание, вольное смирение. Поэтому Кузмин и в самом деле «человек позднего символизма». Позднего – потому что решительно противопоставил себя высокому и туманному символизму начала века: как раз тогда, в одном из писем к другу, он писал, что любит «определенную форму и осязательный символ».
Плоть мира, его прекрасная «вещность» выразилась у Кузмина с «акмеистической» остротой, в полной объемности, раздельности, ясности, четкости реальных очертаний. Но чем буквальней и конкретней воспроизводимый мир, тем закономерней просвечивает его одухотворенность, «благодатность».
Одна из главных тем его творчества – путь души через любовь и красоту к духовному просветлению. В триаде – дух, душа, тело – для него главное – среднее звено (Психея, душа-странница, «эмоциональность», сердце), но прежде всего как посредник, начало соединяющее: просветляющее плоть и «оплотняющее» дух. В одном из стихотворений рассказывается об этой неустанной созидающей работе «сердца», действующей как бы помимо ленивого и сонного повседневного существования:
Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг.
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Оно все торопится, бьется под спудом.
А мы – будто мертвые: без мыслей, без снов…
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.
В поэме «Форель разбивает лед» речь идет, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим «символическое», объемное восприятие мира. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях – духовный «обмен» и «подкрепленье», возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого мирочувствования – обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну:
Наш ангел превращений отлетел.
Еще немного – я совсем ослепну,
И станет роза розой, небо небом,
И больше ничего! Тогда я прах,
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!
И подкрепленья нет и нет обмена!
(Так и происходит в поэме, с буквальностью натуралистического гротеска: он и «тонет», и иссыхает, и превращается в какое-то фантастическое жалкое существо.)
Кузмин писал об особой, свойственной поэтам предсмертной обостренности восприятия: поэты «должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз». В рецензии на постановку пьесы Гольдони «Слуга двух господ» он выражает сходную мысль, бросающую свет и на его собственное увлечение XVIII веком, и на его поэзию в целом: «На пороге XIX века, накануне полной перемены жизни, быта, чувств и общественных отношений, по всей Европе пронеслось лихорадочное, влюбленное и судорожное стремление запечатлеть, фиксировать эту улетающую жизнь, мелочи обреченного на исчезновение быта, прелесть и пустяки мирного житья, домашних комедий, «мещанских» идиллий, почти уже изжитых чувств и мыслей. Словно люди старались остановить колесо времени… Ни важное, героическое искусство XVII века, ни шарахнувшийся действительности, ушедший в отвлеченность и причуды романтизм начала XIX века не имеют этого влюбленного трепета жизни, как произведения второй половины XVIII века. Повсюду звучит какая-то лебединая песнь исчезающего общества».
«Предсмертное» – то есть восприятие жизни как бы перед лицом смерти – не остается «за кадром» лишь как условный стимул для усиления поэтической выразительности, но входит в состав самого образа, вливается тонкой и острой струей в умиленное, «серафическое» (а порой и сентиментальное) любование миром, предметом, любимым человеком:
Что мне приснится, что вспомянется
В последнем блеске бытия?
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?
На что-нибудь совсем домашнее,
Что и не вспомнить вот теперь:
Прогулку по саду вчерашнюю,
Открытую на солнце дверь.
Удивительным образом здесь соотносятся как бы два порога, две «двери», открытых «на солнце»: в первой строфе – оглядка души на последнем пороге, «в последнем блеске бытия», во второй – самая будничная дверь, распахнутая в сад, «на солнце». Два эти мгновения как бы стягиваются, сливаются, и оттого обычная дверь и «земное» солнце обретают особую значительность и яркость. Конечно, не каждый раз это обогащение предметного мира происходит с такой наглядностью. И надо сказать, не всегда и удается. Это мироощущение очень близко граничит и с гедонизмом, и с простым смакованием «пустяков», и порой Кузмин эту границу переходит. Происходит именно то, от чего он сам предостерегал поэтов в статье об Ахматовой: «мелочи» становятся лишь «сентиментальными сувенирами».
Но и там, где нет этой насыщенности и этого ровного сияния, – все-таки неизменно присутствует особое кузминское «тепло» и «влюбленный трепет жизни». (Вместе с образами легкости, полета важен для Кузмина и образ тепла, причем не какого-то абстрактного тепла, а с указанием на его конкретный источник:
Опять затопил я печи,
И снова сижу один…
Как от милой детской печки,
Веет родным теплом…)
Искусство Кузмин и воспринимает как победу над смертью, преодоление тления:
Кто тленного не знает страха,
Тому уничтоженья нет.
Поэтический мир Кузмина нетрагичен, почти лишен яркой силы (хотя способность к созданию «ударных эффектов» убедительно демонстрируют его небольшие поэмы – «Св. Георгий», «Пламень Федры», «Враждебное море» и некоторые другие); это мир, озаренный «солнцем негорячим».
Мирно уживаются в его поэзии и такие противоположные как будто свойства. Кузмин поэт совершенно открытый и очень искренний (в его стихах есть «что-то до жуткости интимное», сказал Анненский). И нет того «лирического героя», которому можно было бы эту интимность «передоверить», – это он, и только он сам. Но при всей открытости он как бы и неуловим, скрыт за летящим, «пестрым», текучим, переливающимся миром своих стихов. Ко всему, что входит в поле его поэзии, у него самое живое, непосредственное, эмоциональное отношение, но сам он как бы остается в тени. Если и есть в его стихах искреннее страдание, оно так легко облекается в сентиментальные шаблоны вековой давности, с «увы» и «ах», что его серьезность подлежит сомнению. Самое искреннее, «теплое» душевное движение самым плотным образом сращено с возможностью его виртуозного изложения в любой форме – и, обратно, никакая виртуозность не противоречит «чувству», как это было бы в другой поэтической системе.
Читателю XX века недостает здесь надрывов и изломов личности, душевных и стилевых диссонансов. Торжествует принцип одоления хаоса подсознательной жизни – светлой примиренностью.
В одном из стихотворений сборника «Параболы» Кузмин осмысляет тайны и задачи искусства:
Стеклянно сердце и стеклянна грудь,
Звенят от каждого прикосновенья.
Но, строгий сторож, осторожен будь, —
Подземная да не проступит муть
За это блещущее огражденье.
То есть полная открытость и прозрачность, но и твердая ограда от гадов «великого и пространного моря» подсознательной жизни. От ранней статьи о «прекрасной ясности» до программы «эмоционализма» 20-х годов Кузмин неизменно настаивает на том, что искусство «должно усиливать или пробуждать волю к жизни и приводить к приятию мира».
Занялись замечательной торговлей:
Все продаем и ничего не покупаем.
Присутствуют его постоянные мотивы: смирение перед судьбой, радость бедного очага, готовность к смерти и небоязнь ее:
Ну что ж? Заплачу, как тебя обниму.
Что есть в суме, с тем и пойду.
Сохранились воспоминания о проходной комнате в коммунальной квартире с голой лампочкой без абажура, но с неизменным самоваром, за которым обаятельный и радушный хозяин угощает литературную молодежь чаем (к чаю приносили кто что мог) и захватывающе увлекательной беседой.
В последние годы Кузмин тяжело болел. Умер он в больнице, 1 марта 1936 года, похоронен на Волковском кладбище.
II
«Противоречия» кузминского мира складываются в ощущение богатства и «пестроты» жизни. Удачно суммировал эти свойства поэзии Кузмина Вл. Марков, один из наиболее глубоких ее исследователей, в статье, вошедшей б третий том «Собрания стихотворений» (Мюнхен, 1978): «Получается впечатление взрыхленности, яркости, краски, блеска, переклички, – и, в результате, движения». «Поэзию Кузмина можно назвать поэзией протекания, красочной фактуры и свободы».
До сих пор иногда еще спорят, был ли Кузмин символистом или акмеистом или ни тем, ни другим – Ахматова, когда-то считавшая Кузмина учителем, в последние годы жизни решительно от него открещивалась; она, в частности, с осуждением говорила о кузминской иронии: «У нас – у Коли, например (речь идет о Н. Гумилеве. – Е. Е.), – все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки». В его кругу «над всем подсмеивались и издевались».
Конечно, разница тут заметна. К примеру, гумилевское «леопарды показываются обыкновенно ночью» было вполне «всерьез». Так же очевидно, что это не могло быть «всерьез» для Кузмина и могло ему казаться «игрушками», при всей симпатии к храброму путешественнику.
Еще более была неприемлема для Кузмина серьезность и торжественность, с которой Гумилев играл роль «синдика» в «Цехе поэтов». Этой «серьезности» у Кузмина не было. Правильнее, наверно, говорить именно о его неполной серьезности (в поведении и произведениях), чем о собственно иронии. Можно подобрать какие-то приблизительные синонимы – шутка, игра, насмешка, веселость и пр. («Веселость едкая литературной шутки»). И конечно, все это никак не соединимо с «упрямым достоинством акмеизма».
Напомню, что символизм – особенно на той поздней стадии, когда Кузмин входит в его круг, – был отличен от раннего символизма и, конечно, от того символизма, каким он предстал как в бессодержательных декларациях Гумилева и Городецкого 1913 года, так и в ярких полемических статьях Мандельштама разных лет.
У Вяч. Иванова определенно формируется как один из основополагающих принципов символизма – «принцип верности вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем». Символ должен выразить одновременно и всю полноту конкретного материального плана образа, и уходящий далеко «по вертикали» идеальный смысл тех же явлений. Образ-символ должен был осуществлять то сосредоточение абсолютного в единичном, о котором писал Вл. Соловьев: «…для того, чтобы уловить и навеки идеально закрепить единичное явление, необходимо сосредоточить на нем все силы души и тем самым почувствовать сосредоточенные в нем силы бытия; нужно признать его безусловную ценность, увидеть в нем не что-нибудь, а фокус всего, единственный источник абсолютного».
Если собрать воедино высказывания Вяч. Иванова о том, каким видится ему идеальный художник, мы, пожалуй, сложим как раз портрет М. Кузмина: это художник-«эхо», который прислушивается к бытию, не искажая форм данности, не налагая свою волю на поверхность вещей; и чем с большим доверием, чем внимательней и смиренней прислушается художник к предметной данности мира, тем явственней проступит ее истинный смысл. Задача такого художника – радостное послушание, вольное смирение. Поэтому Кузмин и в самом деле «человек позднего символизма». Позднего – потому что решительно противопоставил себя высокому и туманному символизму начала века: как раз тогда, в одном из писем к другу, он писал, что любит «определенную форму и осязательный символ».
Плоть мира, его прекрасная «вещность» выразилась у Кузмина с «акмеистической» остротой, в полной объемности, раздельности, ясности, четкости реальных очертаний. Но чем буквальней и конкретней воспроизводимый мир, тем закономерней просвечивает его одухотворенность, «благодатность».
Одна из главных тем его творчества – путь души через любовь и красоту к духовному просветлению. В триаде – дух, душа, тело – для него главное – среднее звено (Психея, душа-странница, «эмоциональность», сердце), но прежде всего как посредник, начало соединяющее: просветляющее плоть и «оплотняющее» дух. В одном из стихотворений рассказывается об этой неустанной созидающей работе «сердца», действующей как бы помимо ленивого и сонного повседневного существования:
Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг.
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Оно все торопится, бьется под спудом.
А мы – будто мертвые: без мыслей, без снов…
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.
В поэме «Форель разбивает лед» речь идет, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим «символическое», объемное восприятие мира. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях – духовный «обмен» и «подкрепленье», возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого мирочувствования – обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну:
Наш ангел превращений отлетел.
Еще немного – я совсем ослепну,
И станет роза розой, небо небом,
И больше ничего! Тогда я прах,
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!
И подкрепленья нет и нет обмена!
(Так и происходит в поэме, с буквальностью натуралистического гротеска: он и «тонет», и иссыхает, и превращается в какое-то фантастическое жалкое существо.)
Кузмин писал об особой, свойственной поэтам предсмертной обостренности восприятия: поэты «должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз». В рецензии на постановку пьесы Гольдони «Слуга двух господ» он выражает сходную мысль, бросающую свет и на его собственное увлечение XVIII веком, и на его поэзию в целом: «На пороге XIX века, накануне полной перемены жизни, быта, чувств и общественных отношений, по всей Европе пронеслось лихорадочное, влюбленное и судорожное стремление запечатлеть, фиксировать эту улетающую жизнь, мелочи обреченного на исчезновение быта, прелесть и пустяки мирного житья, домашних комедий, «мещанских» идиллий, почти уже изжитых чувств и мыслей. Словно люди старались остановить колесо времени… Ни важное, героическое искусство XVII века, ни шарахнувшийся действительности, ушедший в отвлеченность и причуды романтизм начала XIX века не имеют этого влюбленного трепета жизни, как произведения второй половины XVIII века. Повсюду звучит какая-то лебединая песнь исчезающего общества».
«Предсмертное» – то есть восприятие жизни как бы перед лицом смерти – не остается «за кадром» лишь как условный стимул для усиления поэтической выразительности, но входит в состав самого образа, вливается тонкой и острой струей в умиленное, «серафическое» (а порой и сентиментальное) любование миром, предметом, любимым человеком:
Что мне приснится, что вспомянется
В последнем блеске бытия?
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?
На что-нибудь совсем домашнее,
Что и не вспомнить вот теперь:
Прогулку по саду вчерашнюю,
Открытую на солнце дверь.
Удивительным образом здесь соотносятся как бы два порога, две «двери», открытых «на солнце»: в первой строфе – оглядка души на последнем пороге, «в последнем блеске бытия», во второй – самая будничная дверь, распахнутая в сад, «на солнце». Два эти мгновения как бы стягиваются, сливаются, и оттого обычная дверь и «земное» солнце обретают особую значительность и яркость. Конечно, не каждый раз это обогащение предметного мира происходит с такой наглядностью. И надо сказать, не всегда и удается. Это мироощущение очень близко граничит и с гедонизмом, и с простым смакованием «пустяков», и порой Кузмин эту границу переходит. Происходит именно то, от чего он сам предостерегал поэтов в статье об Ахматовой: «мелочи» становятся лишь «сентиментальными сувенирами».
Но и там, где нет этой насыщенности и этого ровного сияния, – все-таки неизменно присутствует особое кузминское «тепло» и «влюбленный трепет жизни». (Вместе с образами легкости, полета важен для Кузмина и образ тепла, причем не какого-то абстрактного тепла, а с указанием на его конкретный источник:
Опять затопил я печи,
И снова сижу один…
Как от милой детской печки,
Веет родным теплом…)
Искусство Кузмин и воспринимает как победу над смертью, преодоление тления:
Кто тленного не знает страха,
Тому уничтоженья нет.
Поэтический мир Кузмина нетрагичен, почти лишен яркой силы (хотя способность к созданию «ударных эффектов» убедительно демонстрируют его небольшие поэмы – «Св. Георгий», «Пламень Федры», «Враждебное море» и некоторые другие); это мир, озаренный «солнцем негорячим».
Мирно уживаются в его поэзии и такие противоположные как будто свойства. Кузмин поэт совершенно открытый и очень искренний (в его стихах есть «что-то до жуткости интимное», сказал Анненский). И нет того «лирического героя», которому можно было бы эту интимность «передоверить», – это он, и только он сам. Но при всей открытости он как бы и неуловим, скрыт за летящим, «пестрым», текучим, переливающимся миром своих стихов. Ко всему, что входит в поле его поэзии, у него самое живое, непосредственное, эмоциональное отношение, но сам он как бы остается в тени. Если и есть в его стихах искреннее страдание, оно так легко облекается в сентиментальные шаблоны вековой давности, с «увы» и «ах», что его серьезность подлежит сомнению. Самое искреннее, «теплое» душевное движение самым плотным образом сращено с возможностью его виртуозного изложения в любой форме – и, обратно, никакая виртуозность не противоречит «чувству», как это было бы в другой поэтической системе.
Читателю XX века недостает здесь надрывов и изломов личности, душевных и стилевых диссонансов. Торжествует принцип одоления хаоса подсознательной жизни – светлой примиренностью.
В одном из стихотворений сборника «Параболы» Кузмин осмысляет тайны и задачи искусства:
Стеклянно сердце и стеклянна грудь,
Звенят от каждого прикосновенья.
Но, строгий сторож, осторожен будь, —
Подземная да не проступит муть
За это блещущее огражденье.
То есть полная открытость и прозрачность, но и твердая ограда от гадов «великого и пространного моря» подсознательной жизни. От ранней статьи о «прекрасной ясности» до программы «эмоционализма» 20-х годов Кузмин неизменно настаивает на том, что искусство «должно усиливать или пробуждать волю к жизни и приводить к приятию мира».