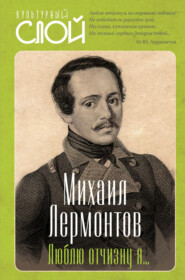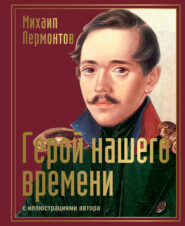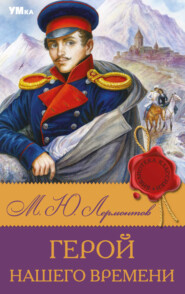По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Герой нашего времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь…
– А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять… А Бэла?..
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся…
– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув…
Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.
– Мы славно пообедаем, – говорил он, – у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное… разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта… Мы поговорим… вы мне расскажете про свое житье в Петербурге… А?..
– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч… Однако прощайте, мне пора… я спешу… Благодарю, что не забыли… – прибавил он, взяв его за руку.
Старик нахмурил брови… Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.
– Забыть! – проворчал он, – я-то не забыл ничего… Ну, да Бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться…
– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески, – неужели я не тот же. Что делать?.. всякому своя дорога… Удастся ли еще встретиться, – Бог знает!.. – Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.
– Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, – совсем было забыл… У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч… я их таскаю с собой… думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться… Что мне с ними делать?..
– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте…
– Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. – кричал вслед Максим Максимыч…
Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..
Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, – а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.
– Да, – сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах, – конечно, мы были приятели, – ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара… Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге… Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. – Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. – Скажите, – продолжал он, обратясь ко мне, – ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться… А, право, жаль, что он дурно кончит… да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. – Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.
– Максим Максимыч, – сказал я, подошедши к нему, – а что это за бумаги вам оставил Печорин?
– А Бог его знает! какие-то записки…
– Что вы из них сделаете?
– Что? а велю наделать патронов.
– Отдайте их лучше мне.
Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко…
– Вот они все, – сказал он, – поздравляю вас с находкою…
– И я могу делать с ними все, что хочу?
– Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей… Да мало ли с кем я не жил?..
Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия: я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.
– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?
– Нет-с.
– А что так?
– Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи…
– Да ведь вы же были у него?
– Был, конечно, – сказал он, заминаясь… – да его дома не было… а я не дождался.
Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден!
– Очень жаль, – сказал я ему, – очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.
– Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда… а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.
– Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.
– Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.
Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими… Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется…
Я уехал один.
Журнал Печорина
Предисловие
Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!
Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.
Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.
Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» – скажут они. – Не знаю.
I
ТАМАНЬ
Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.