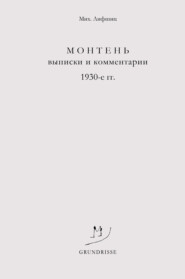По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лекции по теории искусства. ИФЛИ. 1940
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нельзя сказать, чтобы эта идея была лишена абсолютно всякого смысла, всякого основания, потому что редко можно в природе или в истории встретить абсолютное разрушение. Какие-то элементы правдоподобия здесь были, были они постольку, поскольку во всяком формальном анализе есть желание не сводить искусство к внешним явлениям, а рассматривать его в его собственном языке. Конечно, форма художественная имеет свой язык, и, конечно, рассказывать анекдоты по поводу картины – это не значит заниматься исследованием, так же, как рассказывать какие-нибудь биографические подробности про Бальзака и Пушкина не значит понимать внутреннюю форму их произведений. Так что в этом смысле это стремление было закономерно, но оно выродилось в самом начале в идеалистические в своей основе представления.
Вы знаете в музыке термин – темперация. «Хорошо темперированный клавир» – название знаменитого сборника сочинений Баха. В чём заключается эта темперация? Сущест вует огромное богатство звуков, и не все мы их можем уловить и пользоваться в своей чувственной жизни. Поэтому практически совершается известное уплотнение, сжатие, сокращение всего этого звукового потока, который мы полностью не воспринимаем, поэтому неизбежно мы восприняли бы их как внешние посторонние шумы, вплетённые в эти двенадцать полутонов, которые составляют октаву. Естественно, что на основе такого чувственного звукового ковра может возникнуть известная условная наука, как, конечно, до известной степени является условной такая теория, которая на этой основе складывается. Она, понятно, не только условна, но она является условной постольку, поскольку ей преподнесены некоторые правила игры, и вот искусство имеет такие правила игры. В поэзии они также есть, например, в форме метрики. Обычная речь тоже имеет какую-то просодию, имеет какое-то звучание, так или иначе рождающее эстетический смысл. Но в поэзии это усиливается тем, что имеется совершенно определённая закономерность или условия игры, сужающие рамки, увеличивающие трудности и напрягающие внутреннюю концентрацию каждого слова, включённого в эти рамки.
И остальные искусства также исторически вырабатывают темперацию в различных формах. Это есть внешняя система форм, она извне одевает внутреннее развитие формы. Она, понятно, имеет известное значение, но если мы такой тип рассмотрения перенесём на все области искусства, это будет ошибочно, и это приведёт к тому процессу, который один испанский философ назвал дегуманизацией[29 - Ortega у Gasset J. La deshumanisaciо n del arte, 1925; первый рус. пер. (фрагменты) в кн.: Современная книга по эстетике. Антология. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. С. 447–456; Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства / Пер. и примеч. С. Воробьёва // Самосознание европейской культуры XX в: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост. Р. Гальцева. М.: Политиздат, 1991. С. 230–263; То же // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Вступ. ст. Г. Фридлендера, cост. В. Багно. М.: Искусство, 1991 (История эстетики в памятниках и документах). С. 218–260.]. Ведь искусствоведение в качестве своей высшей добродетели проповедовало такую холодность. В отношении к явлениям искусства исключается всякий сентиментализм, всякие переживания, всякий лиризм, внимание должно быть сосредоточено на условиях игры, на этой формальной стороне дела.
Такое логическое научное обоснование явилось почвой для формирования искусствоведения школы Дессуара, оно проникло и в литературоведение. Сопоставьте с тем, что я вам сказал, то явление в русской науке о литературе, которое связано с так называемым ОПОЯЗом – Обществом поэтического языка, возникшим в начале революции, со сборником «Поэтика», в котором принимали участие Шкловский, Эйхенбаум и ленинградский литературовед Жирмунский, и с более поздними статьями Эйхенбаума и Жирмунского в двадцатые годы. Это была прокламация идей, связанных с Ф.П. <А.А. Потебней?>. Поэтика должна представлять такую параллель лингвистике, и она включает в себя поэтическую фонетику, метрику, инструментовку, мелодию, семантику, имевшую особое обаяние для исследователей этого рода. То, что попало в область <…>, получает название подтекста, какое-то смысловое значение формы.
Тут правильно, что в искусстве нет содержания, которое было бы вне формы. Так что тут было рациональное зерно, но всё это выродилось в совершенно абстрактное, лишённое всякой фактической основы теоретизирование и сочетание различных категорий.
Подробнее об этом я не буду вам рассказывать, потому что времени нет, но укажу только на связь этого явления с такими явлениями искусствоведения, которые связаны, главным образом, с именем Вёльфлина, с именем Ригля, венского искусствоведа, который в конце XIX века, в первые годы XX века выпустил свою работу «Вопросы стиля» и исследование «Позднеримской художественной промышленности»[30 - Riegl A. Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik [Вопросы стиля. Основы истории орнаментики], Berlin, 1893; Riegl А. Die sp?tr?mische Kunstindustrie nach den Funden in ?sterreich-Ungarn dargestellt [Позднеримская художественная промышленность…]. 2 Bde. Wien, 1901 und 1923.]. Это направление, наиболее типичное в литературе, было представлено Оскаром Вальцелем, автором ряда исторических экскурсов по истории немецкой литературы и многих теоретических сочинений. Именно в лице Вальцеля мы имеем параллель и учительский образец по отношению к нашим, главным образом ленинградского происхождения, доморощенным формалистам.
В области поэтики и у него находит себе выражение эта попытка производить формальный анализ на основе противоположных категорий, наиболее характерные примеры которых дал Вёльфлин. Валь-цель в своей работе «<…>»[31 - См.: Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Пер. М. Гурфинкель, ред. и вступ. ст. В. Жирмунского. П.: Academia, 1923; Вальцель О. Сущность поэтического произведения; Он же. Архитектоника драм Шекспира; Он же. Художественная форма в произведениях Гёте и немецких романтиков…// Проблемы литературной формы. Сб. статей / Ред., вступ. ст. В. Жирмунского. Л.: Academia, 1928.] прямо ссылается на эти категории анализа стиля, которые были выработаны Вёльфлином. Преувеличенная роль категорий стиля связана с этим направлением. Стиль может быть реалистическим, иногда нереалисти ческим, но стиль не может быть реально отражающим действительность и поэтому реалистическим в смысле эстетической оценки или отражаю щим действительность верно или неверно. Не может быть верный или неверный стиль. Стиль есть категория, в значительной степени исключающая оценку по содержанию. Стиль есть известная формальная совокупность, которая подлежит исследованию. Преувеличение роли категорий стиля, стилевого анализа отличает исследователей это го формалистического искусствоведения. Наиболее типичным его выразителем являлся Вёльфлин, и я хочу, чтобы обнаружить истинное содержание этих противоречий в отношении действительного знания фактов, несколько разобрать этот пример.
Вёльфлин в своём главном произведении «Основные понятия истории искусств»[32 - W?lfflin H. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst. M?nchen, 1915; рус. пер.: Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. А. Франковского, вступ. ст. Р. Пельше. М.—Л.: Academia, 1930.] выдвигает ряд категорий форм, взаимно противоположных и в противоположности своей характеризующих различные степени художественного мышления и различные стили художественной культуры, как классика и барокко. Это формальные категории такого свойства. Если искусство классическое, искусство Ренессанса уделяет очень много внимания линии, то позднейшее искусство и прежде всего искусство барокко выдвигает принцип живописности, и линия в нём такой значительной роли не играет. Вёльфлин настаивает на том, что барокко имеет свою правду и свою логику и является искусством не хуже, чем то искусство, в котором преобладает линия. Если в классике играет роль плоскость, то в барокко играет роль уведение нашего глаза в бесконечное пространство. Если классика даёт замкнутую форму, то форма позднейшего искусства является открытой. Точно так же, как многообразны классические произведения <…>, если классика даёт абсолютную ясность, ясность композиции в барочном искусстве является только относительной. Если в эпоху Возрождения действует некоторым образом такой телесный фактор, фактор <…> (хотя, по мнению некоторых искусствоведов, здесь не хватает пластичности, – но всё-таки пластическая форма здесь предполагается), то бароч ное искусство является искусством глубины, бесконечности, субъек тивного начала.
До некоторой степени с этим сходна и система категорий менее сложная, которая Риглем предложена, деление на осязательное и зрительное, это движение от осязательного, материализованного ощущения первичного архаического искусства, дальше через классику вплоть до Возрождения, импрессионизма, экспрессионизма. Такие категории получили колоссальное распространение и в области литературы, Вальцель применяет их, хотя их нельзя прямо перевести в литературу. У Жирмунского в его ранних работах можно прочесть о противоположности классического и романтического в русской литературе[33 - См., например: Жирмунский В. О поэзии классической и романтической // Жизнь искусства. 1920. № 339–340. 10 февраля; перепечатано в кн.: Жирмунский В. Вопросы теории литературы. Л., 1928.].
Нет такого литературоведа или искусствоведа, который не оперировал бы противопоставлением дионисийского и аполлоновского начала, как противопоставлением телесного и духовного, южного духа и северного духа, итальянского Ренессанса и немецкого Ренессанса. Одним словом, такая система противопоставлений, которая, в общем, выражает одно и то же. В конце концов, дело сводится к одним и тем же элементам, которые проявляются в истории художественного мышления.
Можно ли сказать, что это совершенно неправильно? Конечно, нельзя. Здесь есть много верного. Верно постольку, поскольку известное преобладание того или другого элемента можно наблюдать. Трудно усомниться в том, что нечто подобное итальянской линии было уже трудно воспроизводимо в последующем искусстве. Просто не было возможно это. И правильно то, что не только искусство, которое на подобной прекрасной линии было основано, могло почитаться искусством.
Но вместе с тем эта теория приводила к некоторым поверхностным и в высшей степени неправильным, но популярным высказываниям, засоряющим головы людей, не только головы учёных, но даже других людей. Таким образом, вдалбливались односторонние и абстрактные представления, которые при достаточном знании истории вопроса, безусловно, не могли бы иметь места. Прежде всего, эта теория, которая хвалится так же, как и позитивистская теория, тем, что она как раз не внешности касается, а именно самой сердцевины художественных фактов, – она, как это ясно видно, приводит к полному отказу от художественных фактов, к полному их отрицанию. Она приводит к тому, что история искусства становится историей категорий и стилей, исключительно историей борющихся между собою сущностей, борющихся между собою стилевых категорий. Для подобного исследования совсем не обязательно, чтобы произведения стояли на одинаковом уровне, чтобы они были значительными. И даже боль ше, абстрагирование этих категорий лучше наблюдать на второстепенных и третьестепенных произведениях, чем на значительных и классических, потому что эти последние представляют некоторую конкретную целостность элементов, а как раз абстракцию отдельных элементов лучше всего наблюдать у второстепенных произведений. Таким образом, возникает формалистическая теория исследования категорий и типов на основании посредственных произведений.
Я не могу этого сейчас иллюстрировать многими примерами, но мне это напоминает некоторые живые факты. Я вспоминаю экспозицию картин в Третьяковской галерее, экспозицию, которая должна была дать строго историческое развитие русского искусства. Для того, чтобы такая экспозиция давала действительное изображение эволюции всех форм, связанных ещё с различными социальными формациями, для этого никак нельзя было обойтись произведениями выдающимися и просто гениальными, которые висели на стенах Третьяковской галереи, а понадобилось вытащить из архивов всякого рода посредственные и просто скверные вещи на том основании, что они дополняют картину историческую. Без них была бы неясна эта история формы. Понятно, что если портрет XVIII века связывать с известными условностями, которые характеризуют Р<окотова> (по-моему, там очень мало таких элементов), то где же эта категория будет выступать сильнее всего? Конечно, в некоторых средних произведениях, потому что в них эти условности, которые художник силами своего гения сумел преодолеть, выражены наиболее полно. Поэтому для искусствоведа это представляет богатый материал для исследования, но беспредметность такой работы бесспорна.
Или можно привести исследования Г<…>, социолога Гр<Грутхойзена?>[34 - Вероятно, здесь имелся в виду Грутхойзен: «В более последовательных формах вульгарная социология сама отвергает разницу между созданием человеческого гения и средним продуктом социальной коммуникации. В качестве простого знака среднее даже более типично. Отсюда не только полемика вульгарной социологии против “биографического метода”, стремление создать историю искусства без художников, но и прямые требования изучать не исключительные произведения, а среднюю продукцию. На Западе эту точку зрения отстаивал известный историк французской общественной мысли Грутхойзен» (Лифшиц М. Вульгарная социология (1971) // Собр. соч. Т. II. С. 242).Грутхойзен, Гротуйзен (Groethuysen) Бернард (1880–1946) – немецко-французский философ, социолог. Ученик Г. Зиммеля, Г. Вёльфлина, В. Дильтея, продолжатель последнего и издатель его сочинений. Историк французской общественной мысли, автор работ о Монтескьё, Руссо, Дидро.]. Он развивает такую теорию, что историк должен изучать исторические явления на основании посредственных произведений, а не самых гениальных произведений, потому что гениальные произведения несколько искажают общую картину, а посредственные – дают соответствующую закономерность.
То же самое можно было наблюдать у Шкловского и других формалистов, когда они принципиально старались заниматься такими явлениями литературы, которые стояли, собственно, за пределами художественной литературы, а относились к промышленной литературе, как говорил Белинский, серобумажной литературе, то есть рыночной литературе. Это было как раз специальностью Переверзева – то есть устремление к таким сравнительно второстепенным явлениям[35 - Ср.: Переверзев В. Онтогенезис «И.С. Поджабрина» Гончарова // Литература и марксизм. 1928. Кн. V; Нарежный В.Т. Избранные романы / Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. В.Ф. Переверзева. М.—Л.: Academia, 1933; Вельтман А.Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Роман / Подгот. текста, ст. и коммент. В.Ф. Переверзева. М.—Л.: Academia, 1933.].
Это первый недостаток, что при таком анализе исчезали факты искусства, а во-вторых, хотя эти противоположности и выражают частично истину, но выражают её в то же время схематично, а поэтому и ложно.
Совершенно справедливо многие искусствоведы на четвёртом конгрессе эстетики и искусствоведения в Германии[36 - Четвёртый конгресс эстетики и искусствоведения состоялся в Гамбурге 7–9 октября 1930 г. См.: Vierter Kongress f?r ?sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Hamburg, 7.–9. Oktober, 1930: Bericht im Auftrage des Ortsausschusses. Beilageheft zur Zeitschrift f?r ?sthetik und allgemeine Kunstwissenschaft; Bd 25 / herausgegeben von Hermann Noack. 256 p. Stuttgart: Enke, 1931.] критиковали эти вёльфлиновские теории с точки зрения того, что они воспроизводили старый антитезис романтической теории искусства. Действительно, если присмотреться, то мы найдём здесь, в этих высказываниях, ряд черт, которые ещё романтики выдвигали в западноевропейской эстетике. Вы помните лекции Августа Вильгельма Шлегеля по истории литературы или по истории народного искусства и литературы[37 - Шлегель А. Чтения о драматической литературе и искусстве / Пер. Т. Сильман // Литературная теория немецкого романтизма. Документы / Ред., вступ. ст., коммент. Н. Берковского. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 213–268. См. также: Шлегель А.В. Лекции о литературе и искусстве; Лекции о драматическом искусстве и литературе. (Фрагменты) // История эстетики. Т. 3. М.: Искусство, 1967. С. 257–267; Шлегель А.В. Из «Берлинского курса» (1801–1804); Чтения о драматическом искусстве и литературе (1807–1808) // Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А. Дмитриева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 125–134.]. В первую голову вы там увидите такую антитезу: одно – формы античного искусства, другое – формы немецкого романтического. Противоположность такова: в античном искусстве преобладала телесная, материальная сторона, отсюда законченность. В романтическом искусстве преобладает духовная сторона, субъективная, углубление в себя, уход в себя.
Вообще это характерная для романтической эстетики антитеза. То же самое вы найдёте у Гегеля в «Философии искусства» в качестве такой системы антитез, которые действительно захватывают диалектические моменты истории искусства. (Потому что история искусства действительно развивалась путём такого рода противоположностей.) Но, во-первых, эти противоположности однобокие, а во-вторых, эти противоположности, конечно, не пользуются каким бы то ни было основанным на формальных категориях анализом, а являются категориями философского содержания.
И достаточно взять книгу Вёльфлина, опубликованную в 1888 году, «Ренессанс и барокко»[38 - Рус. пер.: Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии / Пер. Е. Лундберга. СПб.: Грядущий день, 1913. (СПб.: Азбука-классика, 2004.)], чтобы обнаружить такую философскую основу противопоставления тела и духа. Это обычные контрасты, которые имели большое значение для романтиков, и были попытки рассматривать этот контраст в свете диалектики, но диалектики чрезвычайно несовершенной, какой была вообще диалектика романтической школы, диалектика Шеллинга, безусловно стоя?щая значительно ниже, чем последующая диалектика, заключённая в эстетической теории Гегеля.
Обращаю ваше внимание на то, что эта противоположность заключает в себе совершенно определённый идеалистический философский акцент и в таком качестве она не могла дать живой целостной истории искусства.
Если просто обратиться к современной искусствоведческой литературе, то вы найдёте в ней (и в литературе по философии и по литературе) не один тип этих антитез, а найдёте, по крайней мере, два типа, но в основе лежат те же самые категории души и тела. У <Вёльфлина> вы имеете антитезу типа: классика и барокко. В литературе – классическое и романтическое у Жирмунского. Первым тезисом является телесное начало, вторым – духовное, субъективное.
Но вы найдёте и другую схему, которая не барокко как искусство души противопоставляет всему предшествующему, а наоборот, примитивное искусство противопоставляет как классике, так и барокко, так и всему предыдущему искусству. Такую схему вы найдёте у В<оррингера>. Тут главный нажим на то, что восточное искусство, искусство архаическое, примитивное имеет свою ценность и свой аромат, и оно-то и является искусством духовного типа в противоположность всему последующему, которое нужно считать материальным искусством, начиная с классики, барокко и т. д.
Рукописные наброски Мих. Лифшица к лекциям
Если барокко есть нечто бестелесное, субъективное, духовное, то где же разработка человеческого тела в массовидной форме, богатство человеческого тела чисто количественного свойства получило значительное развитие, как не в живописи барокко? Совершенно ясно, что вместе со спиритуализмом барокко свойственна такая массовидная материальность. Или, употребляя выражение Гейне, можно сказать, что это спиритуализм жареной курятины.
Искусство барокко может быть рассматриваемо как антитезис примитива. Вспомните те примитивы, о которых с такой любовью и проникновением писали Тик и Вакенродер. Вспомните их колорит и сравните это с образами всего последующего искусства, начиная с высокой итальянской классики и даже включая сюда и Болонскую школу и Рубенса, и всё, что было сделано в области светской и даже чересчур светской трактовки человеческого тела.
Если взять эти категории с точки зрения формального анализа, каждая из них заключает в себе собственную противоположность. Возьмите эту линейность, прекрасные линии художников Возрождения, особенно флорентийцев, которые справедливо противопоставлялись позднейшему развитию колорита. И у Шеллинга в речи об отношении изобразительных искусств к природе[39 - Шеллинг Ф. Об отношении изобразительных искусств к природе / Пер. И. Колубовского // Литературная теория немецкого романтизма. Документы / Ред., вступ. ст., коммент. Н. Берковского. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1934. С. 289–326; Шеллинг Ф. Об отношении изобразительных искусств к природе // Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 52–85.] уже вся эта вёльфлиновская теория целиком заключена. Но если более подробно к этому присмотреться, то оказывается, что вместе с живописностью в искусстве барокко и в последующем искусстве развивается элемент графический. Можно сослаться даже на теоретические примеры. Когда возникло знамени тое учение об S-образной линии, линии, напоминающей латинскую букву S[40 - Об S-образной линии, «линии красоты», истории происхождения учения о ней см.: Хогарт У. Анализ красоты / Пер. А. Сидорова // Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов под общей редакцией Д. Аркина и Б. Терновца. М.: Изогиз, 1936. Т. 2. С. 77–102. (Более позднее издание – Хогарт У. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987.)]? Именно в эпоху барокко. Подобное учение могло возникнуть только на основании отделения линии от живописи, и в искусстве Ренессанса мы видим отделение графики от искусства живописи. Мы можем сказать, что это отделение происходит и что обе стороны развиваются самостоятельно и развиваются односторонне. Но как думает В<ёльфлин>, что в северном Ренессансе живописность играет бо?льшую роль, чем в итальянском Ренессансе, а линия играет ме?ньшую роль, – по-моему, это совершенные пустяки, потому что любое наблюдение над изломом линии и над изображением складок немецкими художниками, наконец, над самим характером изображения ломаной зигзагообразной готической линии у Дюрера показывает, что линия здесь в сухом виде, в определённом виде, и нисколько это не противоречит тому, что в том или другом случае преобладают живописные моменты.
Я не буду продолжать этот анализ, но можно это легко проделать, потому что как можно противопоставить искусство послеклассическое как искусство единства искусству классическому как искусству многообразия, потому что если где-нибудь элемент многообразия развит, то это именно в искусстве барокко?
Конечно, подобные рассуждения грешат той слабостью, которая была присуща диалектике в её романтической форме. Употреблять дух и тело, абстрактно противопоставлять эти моменты – это глубокий недостаток, который пытался исправить уже Гегель в своей эстетике. Насколько он мог при своём идеализме, в своей эстетике он этого добился. Но, в конце концов, это аскетическое христианское противопоставление души и тела у него снова возрождается и приводит к различным противоречиям в его системе.
Но Гегель пошёл дальше, и в его эстетике вы найдёте уже, что именно христианское искусство, именно то, что такие люди, как Шлегель, называли романтическим искусством, искусством углубления в себя, искусством, уводящим в бесконечность, вдаль и т. д. и т. д., короче говоря, <духовное, субъективное> – идеальное искусство в противоположность классическому искусству. Вместе с тем идёт очень большое отделе ние субъективного от реального, от внешней действительности, и вместе с тем мастерское изображение этой действительности, внешних материальных деталей, современная точность наблюдения и вообще всё то, что связано с прогрессом масляной живописи со времени Возрождения и барокко.
И то же самое в литературе. Ведь в литературе наряду с психологическим углублением, которое наблюдается в позднейшей литературе, вы видите возникновение романа, который захватывает широкие картины жизни. Возьмите, например, Бальзака, его описание кредитных операций детальное, и это входит в искусство вместе с лирикой, вместе с психологической концентрацией.
У Золя мы найдём это противоречие, на что указывал тов. Лукач[41 - См.: Лукач Г. Золя и реализм // Литературная газета. 1934. № 156 (472). 22 ноября. С. 2; Он же. Золя и реалистическое наследие // Литературное обозрение. 1940. № 16. С. 39–45; Он же. «Творческая лаборатория Золя» // Там же. 1940. № 22. С. 49–57.], противоречие между лирическим символом и натуралистическим описанием в самой художественной ткани и в изобразительном искусстве, особенно в пределах разложения классического искусства. В формализме мы сплошь да рядом наталкиваемся на грубейший натурализм вместе с колоссальной абстракцией и произвольным субъективным искажением формы.
Так что эти моменты развиваются параллельно, развиваются, расходясь в разные стороны и образуя некоторую дисгармонию, и в каждой ступени есть и своеобразная линейность, и своеобразная живо писность. В каждом периоде развития есть своеобразие сочетания этих элементов, которые, отвлекая от этой целостности, мы превращаем в категории. Речь идёт о сочетании пластического и живописного, о том, как различно их единство в классическом искусстве итальянском, об их единстве противоречий в северном Возрождении, потом в барокко и т. д. Без этого нет никакой возможности выбраться из абстрактной противоположности стилей и ступеней, причём мы всегда увидим, что искусствоведение подобно вавилонской башне, как Брейгель изобразил её. У одного это живописное, у другого – плоскостное. Эта самая цезура, делящая на две противоположные ступени, должна быть понята совсем иначе, должна быть понята в определённом глубоком диалектическом развитии.
Это было осознано в крайне противоречивой форме новейшим искусствоведением. То, что я вам рассказывал, представляет вчерашний и позавчерашний день. Уже лет десять-двадцать тому назад в буржуазном искусствоведении или науке об искусстве было стремление к возрождению умозрительной эстетики в духе Гегеля. И даже такие люди, как Дессуар, основатель этой науки, даже он на конгрессе, о котором я говорил, указывал на зарождающееся стихийное возрождение искусствоведения как эстетики Гегеля и называл гегелевскую эстетику квантовой теорией искусства, столь сложный и глубокий анализ которого может быть сравним в области естествознания только с новейшей квантовой теорией.
В качестве иллюстрации я приведу мнение того же Вальцеля, следующим образом характеризующее эволюцию науки об искусстве в самое недавнее время. Вальцель говорит:
«Классическая немецкая философия…» (цитата)
Вот изложенный напыщенным языком буржуазного литературоведа-идеалиста смысл последних явлений в области этой науки.
Что это касается и области истории искусства, вам должно быть совершенно ясно, тем, кто знаком с литературой предмета хотя бы по работе Макса Дворжака[42 - См.: Дворжак М. Очерки по искусству средневековья / Пер. А. Сидорова, В. Сидоровой. Общ. ред. и вступ. ст. И. Маца. М.—Л., 1934; Дворжак М. История искусства как история духа / Пер. А. Сидорова, В. Сидоровой, А. Лепорка. СПб.: Академический проект, 2001.]. Он рассматривает эту формалистическую традицию в духе так называемого духовно-исторического метода.
Что касается литературоведения, то наиболее ярким фактом, может быть, представляется конгресс, который состоялся в Будапеште. Бенедетто Кроче так характеризует перелом, происшедший в литературоведении: (цитата)[43 - Первый международный конгресс по методологии современной истории литературы состоялся в мае 1931 г. в Будапеште под руководством итальянского философа и эстетика Бенедетто Кроче, французского литературоведа Фернана Бальденсперже (Baldensperger; 1871–1958) и немецкого литературоведа Оскара Вальцеля. В программном своём докладе «Методология и история литературы» Кроче подытожил искания буржуазной науки о литературе «единого метода», «синтеза» и, подчёркивая резкий отход от позитивизма и историко-филологического метода, требовал, чтобы в основу мировоззрения положили философию. «Таким образом специалист по литературоведению самым ходом своих исследований и своих мыслей будет приведён к тому, чтобы стать философом, занимаясь хотя бы философией искусства». Кроче видит этот синтез в возрождении немецкой классической идеалистической философии и приспособлении её к новым обстоятельствам. «Вообще было время, – пишет он, – когда это единство теории и истории, философии и литературы было повсеместно признано или, по меньшей мере, прочувствовано и пережито – это эпоха, в которую возникла история поэзии, эпоха великой идеалистической и романтической философии Гердера, Вильгельма Гумбольдта, Фридриха Шлегеля, открытая госпожой Сталь во Франции и во всей Западной Европе. И это наследие мы должны снова воспринять. Под этим не подразумевается, что нужно удовольствоваться истинами, выработанными теми критиками, или принять все тогдашние понятия, заблуждаясь в тех же ошибках, в которых заблуждались они» (Benedetto Сrосе. Methodologie und Literaturgeschichte // Deutsche Vierteljahrsschrift f?r Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Heft 4, 1932. S. 529, 532). Цит. по: Шиллер Ф.П. Литературоведение в Германии. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1934. С. 9–10. Далее там же – об обращении к Дильтею.].
И это не исключительное заявление, а общий голос, который в последние годы всё время раздавался и со стороны тех людей, которые прежде держались только формального анализа, и наиболее характерно это выразилось в явлении так называемого духовно-исто рического метода или философии о духе, связанной с именем Дильтея. Дильтей – старый немецкий автор, его работы были написаны ещё в восьмидесятых годах, но значение он приобрёл только в последние десятилетия[44 - Dilthey W. Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883; Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine f?r eine Poetik, 1887. На рус. яз. впервые (в сокращении): Дильтей В. Введение в науки о духе; Сила поэтического воображения. Начала поэтики / Пер. В. Бибихина // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Издательство Московского университета, 1987. С. 108–142. См. также: Шиллер Ф.П. Духовно-историческая школа в немецком литературоведении // Литератуpa и марксизм. 1929. Кн. IV.]. У него не бог весть какие глубокие постижения целостного характера различных явлений духовной культуры. Он и выдвинул старое-престарое, очень описательное и недостаточно точное научное представление о том, что формы не являются самостоятельным миром, но выражают собой совершенно определённые духовные эпохи. У Дильтея мы находим стремление истолковать все литературные художественные формы посредством раскрытия определённого смысла или символа исторического, заключённого в данную форму. Поэтому для него существен но не объяснение и не формальный анализ. Для Тэна характерно объяснение, то есть не важно, что это хорошо или плохо, важно, чтобы были соответствующие социальные причины, которые породили данное явление, а хорошо или плохо данное явление – для науки это не важно.
Следующая ступень – это формальный анализ в духе немецкого искусствоведения, когда не важно, что? выражается, какое содержание выражается в художественном произведении, не важно, насколько значительна его ценность, а важны те элементы, которые раскрываются таким расчленением и анализом.
А что вводит Дильтей и его последователи? Это не объяснение, не формальный анализ, а истолкование. «Маленькие трагедии» Пушкина. Можно сказать, что в этих трагедиях Пушкина выразилось влияние той обстановки, которая была в николаевское царствование, стеснение свободы его творчества, – это привело его к тому, что он стал весьма остро чувствовать неразрешимость некоторых вопросов. Объяснение условное, но тип вам понятен.
Можно раскрыть какую-нибудь статью Жирмунского и найти, какие там имеются эпитеты, метонимии, всё, что составляет формальную словарную ткань этих произведений, причём здесь будет намечено какое-то движение, будет противопоставление какой-нибудь языковой стихии XVIII века или позднейшей. Тут будет соответствующая терминология.
А можно истолковывать эти трагедии, то есть выяснять их философский смысл. Так и делал в своё время Гершензон, разыскивая там глубокие, мировые, космические проблемы.
К подобному толкованию вернулся в области искусства Дворжак, а в области истории литературы все эти последователи Дильтея самых разнообразных типов.
Тут есть два направления. Последователь Дильтея в области искусствоведения Герман Ноль в работе «<…>»[45 - Работы Г. Ноля (одна из которых, вероятно, могла иметься здесь в виду): Nohl H. Die Weltanschauungen der Malerei, 1908 [Мировоззрения живописи]; Stil und Weltanschauung, 1920 [Стиль и мировоззрение]; Die ?sthetische Wirklichkeit, 1935 [Эстетическая действительность]; Einf?hrung in die Philosophie, 1935 [Введение в философию].] проводит параллель между философскими направлениями и художественной формой. Это направление выдвигает на первый план, главным образом, корреляцию, соотношение между философскими взгля дами и литературным произведением. Это прогресс, поскольку такой человек, как Гёльдерлин, имеет полное право занимать место и в истории философии, а не только в истории литературы, как и другие представители немецкой литературы того времени. Это связывается с проблемами государственного, экономического характера и т. д. Историческая проблематика связывается с рядом социальных вопросов, так что в этом смысле это течение представляется довольно серьёз ным по фактическому обоснованию своего направления в своих работах.
Другое направление связано с именами поэта Стефана Георге и немецкого историка литературы <Ф. Гундольфа>. В своей работе о Шекспире[46 - Gundolf F. Shakespeare und der deutsche Geist [Шекспир и немецкий дух]. Berlin, 1911; Гундольф Ф. Шекспир и немецкий дух / Пер. с нем. И.П. Стребловой. СПб.: Владимир Даль, 2015.] он высказал новое понимание, исходящее из науки о духе. Оно заключается в том, что в каждой форме он видит символ. Не просто, исходя непосредственно из внешней среды, нужно анализировать эти формы, но нужно видеть в этих символах что-то иррациональное, символ известной жизненной потенции, переживания. Великие художники берут форму, исходя из определённых переживаний. Эти переживания базируются на первоначальных феноменах, которые чрезвычайно глубоко потрясают самое существо художника, это такие феномены, которые имеют отношение к вопросу о связи личности с космосом.
А кроме того, есть ещё вторичные переживания, это всё, что касается акклиматизации художника во внешней среде. Это биографические данные, его личность, развитие его философских доктрин в точном смысле слова, одним словом, всё, что относится к ранней фиксации моментов его облика, но внутри этой фиксации, под ней лежит нечто такое, что больше всё же этих внешних моментов и что является жизненным импульсом данной личности, данного гениального художника.
Известна работа Курциуса о Бальзаке[47 - Curtius E.R. Balzac. Bonn, 1923.]. Она начинается совершенно в этом роде – тайна Бальзака. Эта тайна сводится к тому, что Бальзак был нелюбимым ребёнком в юности своей, и это первое переживание, такой надлом, развивается в последующем в тайну его отношений к остальному миру. И чувство этой тайны всё время не покидает Бальзака. Это частный пример. В других работах, конечно, в гораздо большей степени это приобретает социальный характер, национальный характер, поскольку вообще эта теория духовно-исторического метода и эта новая эстетика герман ская с присоединением Бергсона и других представляет собой реакционное явление, и, в конце концов, оно связано со всей той пьяной спекуляцией в области философии культуры, которая нам, по крайней мере, по примеру Шпенглера в его «Закате Европы»[48 - Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte [Закат Запада. Очерки морфологии всемирной истории]. Bd. 1–2. M?nchen, 1919–1922; рус. пер.: Шпенглер О. Причинность и судьба. («Закат Европы». Т. 1. Ч. 1-я) / Пер. А. Франковского. Пб.: Academia, 1923; Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2 [Фрагменты] / Пер. и примеч. С. Аверинцева // Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост. Р. Гальцева. М.: Политиздат, 1991. С. 23–68; Шпенглер О. Закат Европы / Пер. К. Свась яна, И. Маханькова. В 2-х т. М.: Мысль, 1993; 1998.], хорошо известна.
Шпенглер – это наиболее значительное явление, но кроме него возникло много других явлений, критикующих цивилизацию, предсказывающих гибель этой цивилизации и возвращающих к идее такого сверхчеловеческого неогуманизма. Эта идея даже вошла в качестве программной составной части в идейную основу разных наиболее реакционных западноевропейских партий, особенно германской. Короче говоря, конечно, фашизм в очень большой степени в своей политической программе, в своих попытках создать какую-то видимость мировоззрения обязан этому духовно-историческому методу Дильтея, Стефана Георге, Вундта. В книге Розенберга «Миф XX столетия» мы нахо дим ссылки на искусствоведение, трактованное подобным образом.
Основная мысль заключается в том, что северный немецкий дух, дух внутренней субъективной напряжённости, это и есть как раз великий готический дух, который сказывается как тенденция во всём новом европейском искусстве, который призван заменить собою в новой Европе то, что представляла собою античная греческая культура. То же самое можно найти у Адольфа Бартельса, историка литературы, который развивает те же вещи.