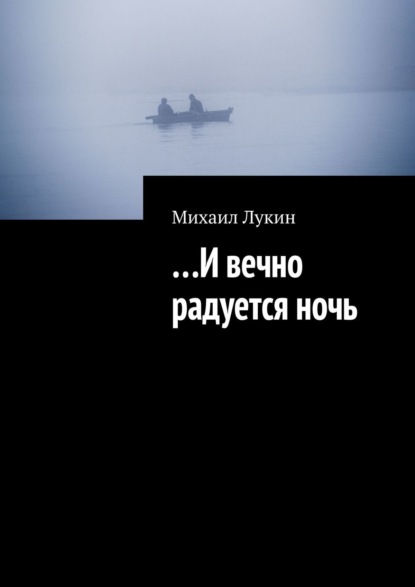По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мои слова неожиданны и повергают его в некоторую тягость, сродни замешательству. Он изрядно обдумывает их с лицом, покрасневшим от возбуждения, со вздрагивающими губами, будто ребенок, которого чем-то обидели.
– Я читал вас, этого достаточно… – находится, наконец.
Вот и ещё один местный поклонник талантов Лёкка!
– А вот господин капитан, вновь прибывший «весельчак» и балагур, – мрачно отзываюсь, – чем он не оригинал? Или же Фюлесанг, припомнивший ненадолго, как ходить в уборную безо всякой посторонней помощи?.. Представьте лишь: человек испытывает потребность казаться моложе собственной души, будто бы не ведая, что душа – бессмертна, и как же быть, в таком случае, моложе самого бессмертия. Как, спрашиваю я вас? Тень на полу – от стола ли, либо от живого существа – и та, куда ни глянь, всё дышит, размечтавшись жить своим разумением, словно бы не существует она единственно волей своего хозяина. Каждый мечтает жить, да не каждому под силу.
В ответ обида профессора переливается через край:
– Вот, – с горечью отвечает, глядя на меня осуждающе-непонятливо, – вы и попрекаете меня тем, что я посчитал вас нормальным человеком.
– Вы ошиблись – теперь вы это, надеюсь, понимаете? Не сыскать здесь людей «нормальных», лишь обрубки, половинки, с половинчатой жизнью, половинчатыми желаниями, кастрированным самолюбием… И я таков же – видите?
Его будто передёргивает, того и гляди переломит.
– Что ж, – его голос меняется, наливается грузной печалью, – рассказывайте всему свету о моих устремлениях! Давайте, я благословляю вас, и не кину камня…
– Ни в коем случае не попрекаю, и, разумеется, ни слова не вылетит из моих уст на сторону, но всё же вы говорите, что вам здесь худо, не объяснившись, а вместо этого выпытываете, худо ли мне. Не кажется вам, что в Лёкке должно было возникнуть больше подозрения к Сигварту, нежели наоборот? Объяснитесь, профессор! Мнение некоего, пусть бы и знаменитого некогда, Миккеля Лёкка, вряд ли должно вас волновать, но скажите на милость, разве вас здесь худо кормят, разве вам холодно или неудобно, разве вас, прости Господи, бьют здесь?
Безмолвен, тягостно хмурится – густые кустистые брови, кажется, грозятся совсем скрыть безнадежно запавшие глаза. Ясно, как день – профессор и не думал об этом, всё на уровне чувств, ощущений, чаяний! В один прекрасный день он просыпается и решает, что ему худо, худо и всё! И чем же он объясняет своё состояние? Болезнью, разочарованием, опустошением? Нет же, некими аллегорическими, мифологическими, даже экзистенциальными, причинами – вот уж действительно книжный червь, научная крыса! – всё способен объяснить воздействием солнечных ветров и космических бурь.
– Ах, сытый голодного не разумеет! – горестно провозглашает он, воздев ладони к небесам. – Вы меня никак не хотите слышать, а понять и подавно – не можете.
– Ну, отчего же… Просто хочется ясности – как её, порой недостаёт! Что вам тут видится таким плохим? Ответьте? Не мне даже, себе… Любая причина уже созвучна со здравым смыслом! Назовите хоть что-то… Скрипят полы? Стены пропускают всякие звуки? – профессор горестно поводит косматой головой. – Нет? Что же, что же… – чешу безнадежно заросший подбородок. – Клопы в перине?! Но раз в месяц их регулярно травят перед Верб… то есть Родительским… Вы одиноки, быть может? Ну, так ведь кругом полным-полно дам и господ, с которыми возможно потолковать, вступить в спор, обсудить последние новости – всё, как вы любите – есть и сиделки, далеко не все из них столь же немногословны, как моя дорогая Фрида. А что до драгоценных родственников, так вы и с ними имеете возможность сноситься, хоть письмами, хоть посылками, да, кроме того, и Родительский День никто не отменял. Не возьму в толк, хоть убейте… А, доктор Стиг, быть может?! Он сквернословит или у него дурно пахнет изо рта, а вам, как человеку благовоспитанному, нелегко это вынести?..
Сигварт молчит, и только – хлоп, хлоп! – глазами.
– Я не могу этого объяснить, не могу и всё тут, – говорит он затем, – это внутреннее ощущение, оно вряд ли подвластно разуму.
– Вот как! Сами объяснить не можете, и хотите что-то услышать от меня… Что ж, я не так много внимания уделяю миру, как вы, и у меня имеется куча времени, чтобы размышлять, порой, я только этим и занимаюсь. Мне не в труд объяснить то, что вам объяснить словами кажется невозможным.
Сигварт краснеет, загодя смущаясь моим словам.
– Что ж, будьте любезны… – отвечает; в голосе явственно волнение.
Поднимаюсь, подхожу к окну – одной сигары мало, а здесь, под подоконником, знаю, припрятан старый окурок на чёрный день. И хоть он уж вовсе иссох, да и день пока не чёрный, просто-напросто целую сигару курить не хочется, – запас уже близок к концу, – делать нечего, буду курить окурок. Спичка шипит в пальцах – пламя, чавкая, медленно-медленно поедает щепу и, кажется, шепчет слова благодарности за, пусть короткую, но жизнь. Рука останавливается, охвачена дрожью – вдруг думаю, как дорого бы дал за одну такую спичку в детстве, когда один заблудился в лесу и вынужден был провести ночь там в неудобстве. Это сейчас возможность вернуться в тот лес была бы счастливой грёзой, это теперь моя мысль, как бабочка, через времена стремится туда вместе со всеми моими тенями и призраками, это теперь я мог быть счастливым там, со спичкой или без… И как выходит – больше ценишь лишь то, чего утерял безвозвратно.
Да, ценишь лишь то, что никогда не вернётся!
– Простите, не расслышал? – слышу голос Сигварта откуда-то извне, со стороны.
Стряхиваю оцепенение, будто пепел с сигары… Медленно избавляясь от нахлынувшего зуда воспоминаний, смотрю на высохшее лицо профессора, затем… вновь в окно, на затянутое серыми облаками северное небо. Думаю, что Шмидт, конечно же, мёртв, и отправился в последний путь в том ящике на рассвете, когда его видела госпожа Розенкранц; старуха Фальк – сошла с ума, к чему тут осторожничать, делать вид, будто они синхронно простудились, и теперь, по велению доктора, блюдут постельный режим, прихлёбывая чаёк и заедая его малиновым вареньем?! Какие могут быть новости, какие могут быть сюрпризы! Думаю и то, что все Сигвартовы томления, охота к перемене мест и прочее, связаны с процессом умирания… Да, он заживо разлагается, и продукты разложения отравляют его душу зловредными ядами беспокойства, свойственными ещё живому, пытливому организму, но по сути разрушительными, ибо они лишают его покоя.
Старая спичка выгорела, как та, прежняя жизнь, как жизнь вовсе, как сам человек; новая спичка в руках так же шипит, но… я не даю огню пожить, а запаляю окурок. Господи, за что мне это?! Вот сейчас я дам этому человеку откровение, но буду проклят за это, и им, и самим собой…
– Жизнь не балует нас смыслом, вот что! – невозмутимо выпускаю объёмистый клуб чада. – Рождение – смерть, точка! Между этим может быть многое, может быть насыщенность, но она не есть смысл; смысл, а вернее, подобие смысла – в движении от начала к концу, по восходящей, по параболе. Утверждай вы или кто-либо из других обратное, он был бы разбит в пух и прах, не мной, так самой этой бессмысленной жизнью. Она сама даёт нам понять, что бессмысленна, она говорит нам это, а мы всё одно твердим, как упрямые бараны, нет, мол, всё же не зря я сделал то, не зря сделал это, мне это всё зачтётся, и у меня будут… самое малое хорошие похороны. Ха-ха! – поворачиваюсь к нему. – Стоит ли так убиваться из-за пышных похорон?!
Сигвартова реакция неожиданна – крайнее смущение, у него даже заплетается язык:
– Похороны… об этом я думал бы в последнюю очередь…
…Тем более, о них есть кому похлопотать…
– Тем не менее, если вам куда и суждено отсюда отправиться, так только лишь в землю. Так же, как герру Шмидту в его уютном ящике для книг, так же, как и всем здесь… Это к вопросу о том, как худо тут живётся. Вы считаете, в земле будет легче, а? Что ж, выбирайте…
– Что, что вы несёте?! – в ужасном смятении хватается за голову. – Вы говорите это мне, живому человеку, пусть и… – запинается, – …пожившему изрядно. Ни такта, ни обхождения, натуральный дикарь! Неужто, все русские такие, или того хуже, ведь я вас считал лучшим из них?
– Да, все, как один, жизнь заставляет, – дикари, азиаты, – да, мы все такие! Так вот, о ваших неудобствах… Главное неудобство в том, что вы не хотите признать того, что жизнь ваша, как совокупность мыслей, чувств и устремлений, теперь на исходе, и у вас нет надежд, которым дано осуществиться. Нет, надежды есть сами по себе, витают серыми тенями где-то у изголовья кровати, но – мертворождённые! Вы хотите покинуть это место, внутреннее убеждение подталкивает вас, однако, уверяю, что для таких, как вы, «уверенных в своём будущем», лучше этого места не сыскать. Подумайте: спокойно и тихо, как в раю, доктор и сиделки здесь, а родственники – там, поют на ухо, что вы бодры и здоровы, что вы тут отдыхаете, о том, как много у вас всего впереди – лежи себе да помирай! Не могу понять, откровенно говоря, всех этих ваших ощущений, и не могу взять в толк, зачем вам уходить отсюда – помирайте здесь (тем более, что смерть – неизбежна!), здесь вовсе не так уж плохо, есть всё для более-менее спокойного отхода в мир иной, и даже сверх того…
Бледнеет, трясётся, исходит слюной.
– Нет, нет, я не умираю, слышите вы, не умираю!
Я, спокойно:
– …Вы тут обмолвились о каком-то будущем в этих либо в каких иных стенах… Смешно, профессор, по меньшей мере. Всё же, я далёк оттого, чтобы подозревать кого-то в скудоумии, ведь во мне самом горит это гибельное синее пламя, застящее, бывает, глаза, и преломляющее дневной свет так, что и не узнать. Вместо того, я принимаю всё это как шутку, и поднимаю на смех, да, на смех!
Профессор Сигварт, дрожа всем телом:
– Нечему радоваться тут, я не предполагал шутить…
Забава становится томительной, и даже дурман никотина, разбавленный таблетками, не оберегает разум от помутнения и глупости – бывает, я хотел бы на миг стать одним из тех, кто регулярно и подолгу беседует с доктором Стигом, выражая искреннюю радость по поводу явных тенденций к улучшению своего состояния. Случись так, то, быть может, у нас было бы куда больше тем для разговоров с Сигвартом, и куда больше поводов ходить друг к другу в гости. Но теперь, видя ничтожество собеседника, святое ничтожество, с удовлетворением гоню от себя такие странные иллюзии – вот ещё! – к чему это добровольно обрастать корявыми струпьями, точно заражённый гусеницей ствол? И, поддавшись на временную слабость – да, я полагаю откровенность не к месту и не ко времени слабостью! – говорю прямо и грубо:
– К чёрту всё это, господин профессор! Смахивайте пыль, стряхивайте пепел: нет у нас будущего, нет, и не может быть, нигде, ни здесь, ни в другом месте; украсить бы хоть как-нибудь настоящее – забот полон рот… Ящик с книгами – вот будущее!
А он садится на стул, закрывает глаза руками и долго трёт их, точно думает, будто всё, что он видит кругом, не относится к нему и, потерев глаза, сумеет он избавиться от наваждения. В воцарившейся тишине, прерываемой изредка лишь звоном склянок, какими-то голосами, и отзвуками шагов по мрамору лестницы, слышу, как он плачет.
– Но вы же… вы же… бунтарь… – голос из ладоней, прерываемый всхлипываниями, глухой и, кажется, будто уже сам по себе, помимо него, отцвёл, облетел, отжил своё – Если б знать, если б знать! – выглядывает из пальцев красными, как закат, глазами. – Всё же, вы непримиримы – полагай я обратное, никогда бы не пришёл сюда…
– Так вот знайте ж, – окончательно суровею, – бунтарь сей оставил Родину, опасаясь бунтовать, да вообще струсив, полный предубеждений, бежал так, что сверкали пятки, тогда как многие друзья его расстались с жизнями за свои убеждения…
– Нет, нет…
Мой голос искажается болью и мукой:
– Увы! Что ж, я никого не звал и никого не ждал…
Тишина. Гость так и плачет; ошарашенный собственными словами, выпадает Лёкк из уверенности в замешательство.
«…И вот слезы угнетённых, а утешителя у них нет…» – является вдруг Екклесиаст во всей своей славе; и ныне всё, как на исповеди, один в один, вот только наоборот, и святой является к грешнику каяться в своей святости. Что ж поделать? Но это тот случай, когда отпустить грехи нет никакой возможности, а всё оттого, что никаких грехов нет и в помине – можно разве заблуждения держать за грех?! – а святость… Что святость? Вещь в себе, дарованная свыше, копьё сотника, пронзившее плоть, крест, в каком-то роде, чаша, что нужно испить до дна, как страдание…
Но слёзы трогают – не могу облегчить страдания души и досаду сердца, но решаю поделиться сокровенным, тем, что, как мне кажется, знаю лишь я один; хочу, чтобы это чуть согрело его сердце.
– Профессор, слыхали вы о белой лодке?
Не отвечает – лишь узкие впалые плечи вздрагивают.
– Есть здесь тайное место, – продолжаю, – прямо здесь в скалах, во фьорде, стоит привязанной белая лодка. Шмидт не пропал, не умер, представьте себе, он уплыл на этой самой белой лодке… Конечно, вы правы – никто из нас не умирает и не умрёт никогда – как можно! – мы просто-напросто уходим прочь от берега на вёслах и под парусами.