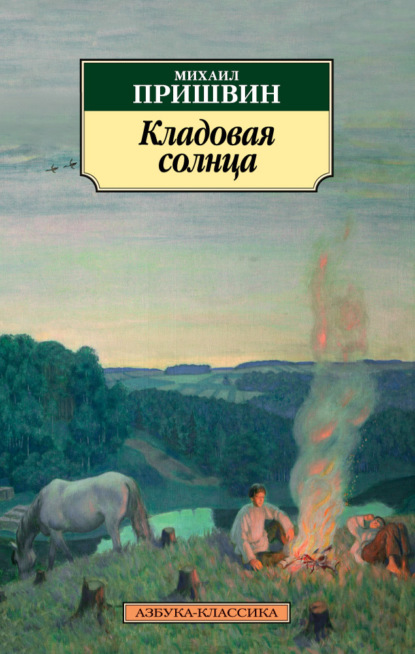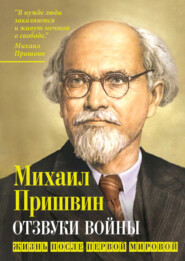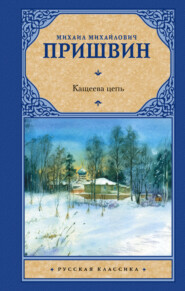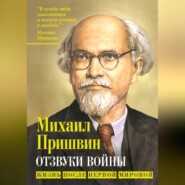По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кладовая солнца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это, верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:
– Ну как, все свои тайны открыл?
– И открывать-то нечего было, – победно ответил Курымушка, – он их и так все простил, он добрый.
– И ты отдал двугривенный?
– Нет, не отдал, это не нужно.
– Не взял?
– Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть – все прощается.
– Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.
– Не пойду!
– Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!
Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяснить, даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.
– Ничего, ничего, Бог простит, – ответил батюшка, поглаживая его по голове, – и смотрите еще – он у вас архиереем будет.
На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.
Коровья Cмерть
Бывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второгодником по прозвищу Ахилл. Гигант-второгодник был всем хорош, слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.
– Директора, – сказал он, – ты не бойся – он справедливый латыш! Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты; не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое – к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, – он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться. Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его Обезьян. Есть еще надзиратель Заяц, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики Коровья Смерть; тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая – начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.
– Почему же он называется Коровьей Смертью? – спросил Курымушка.
– Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.
– Ты сам – корова?
– Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.
Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.
– Это вызубри, – учил Ахилл, – назубок, тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет – много лишних коров наделает.
«Не подвести бы класс!» – опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и боже сохрани подвести. А что учителя – враги классу, то это само собой понятно. Зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию шел, все твердил: «Сложение есть действие…»
– Хорошо вызубрил? – спросил Ахилл.
– Хорошо.
– Ну-ка!
– Сложение есть действие… – И стал.
– …посредством которого… – подсказал Ахилл.
– Да-да… посредством которого…
– Стой, идет!
– Идет, идет, идет! – прошумело в классе и стихло, как перед грозой.
Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было: Алпатов.
– Тебя, тебя! – шептали вокруг.
– Алпатов здесь?
– Здесь, здесь! – крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.
– Дай тетрадь!
Курымушка подал.
– Что есть сложение?
– Сложение есть действие… – Запнулся.
Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:
– …посредством которого, посредством которого…
– Молчать! – крикнул Коровья Смерть.
Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.
– Долго ли ты будешь молчать?
Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стукалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.
Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят, и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась… и – вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута, – эта левая нога теперь метнулась как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.
Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у! – что там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражая такое презрение, такую ненависть, будто это не человечек стоял перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась – в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно – раз птица шевельнулась, стойка мгновенно кончается. Коровья Смерть спросил:
– Отец есть?
– Нет отца, – ответил тихо Курымушка.
– Мать есть?