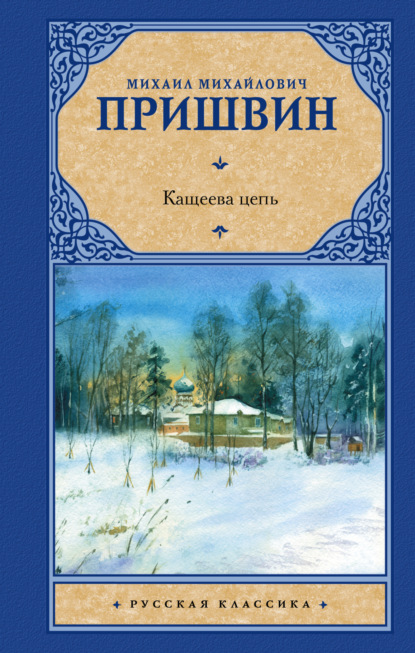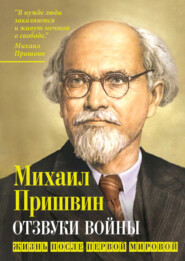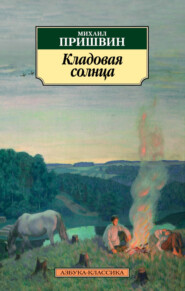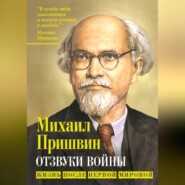По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кащеева цепь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:
– Смотри!
– Нет, ты смотри!
– Господь тебя покарает!
– А из тебя на том свете черт пирог испечет.
Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, – значит, их всех обманывают?
«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» – спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..
«Козел виноват!» – сказал он себе.
За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.
«Что же делать? как быть дальше?» – спросил он себя, входя к себе.
– О мой милый мальчик, – сказала ему добрая Вильгельмина, – зачем, зачем ты остригся? Ты стал теперь такой умный.
– Чем же это плохо быть умным?
– Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцевать, а ты по ночам книжки читаешь.
И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал… и что теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.
– Auf, auf! в гимназию! – звала его Вильгельмина. А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-нибудь, но сделать сейчас же, немедленно… Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» – подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.
– Милый мой мальчик, – говорила она, – отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся?
Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, – вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.
– Можно, – сказал Калакутский, – только тебе первый раз надо выпить для храбрости.
– Ну, что же, давай напьемся.
– Приходи ко мне в сумерки.
Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего. – борол он свой страх, – когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.
Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.
– Ну, пойдем?
– Куда пойдем? – спросил Калакутский.
Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.
– А! – вспомнил он вдруг. – Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.
– И не пойдем?
– Нет, отчего же, пойдем, – там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, – они нас, мальчиков, очень любят, только надо теперь же идти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?
– Нет, я думал – нам это нельзя.
– Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?
– Да так, вижу, нет ничего – и вздумал.
– Как нет ничего?
– Учителя – обманщики, сами не верят, а нас учат.
– Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет. Он страшный трус и тоже нашим путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал – они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.
«Вся надежда на водку!» – холодея от страха, думал Алпатов.
Шли сначала по улице, Алпатов спросил:
– А Козел тоже ходит?
– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.
– Как же это? Калакутский расхохотался.
– Неужели и этого ты еще не знаешь?
Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.
– Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, – сказал Калакутский.
Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.
– Скоро весна, – сказал Калакутский, – коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и – в подворотню…
Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.
– Запомни теперь для другого раза, – шепотом учил Калакутский, – этот заячий путь – нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?
– Нет, не боюсь!
– Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.
В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:
– Отвори, Анюта!
– Смотри!
– Нет, ты смотри!
– Господь тебя покарает!
– А из тебя на том свете черт пирог испечет.
Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, – значит, их всех обманывают?
«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» – спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..
«Козел виноват!» – сказал он себе.
За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.
«Что же делать? как быть дальше?» – спросил он себя, входя к себе.
– О мой милый мальчик, – сказала ему добрая Вильгельмина, – зачем, зачем ты остригся? Ты стал теперь такой умный.
– Чем же это плохо быть умным?
– Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцевать, а ты по ночам книжки читаешь.
И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал… и что теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.
– Auf, auf! в гимназию! – звала его Вильгельмина. А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-нибудь, но сделать сейчас же, немедленно… Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» – подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.
– Милый мой мальчик, – говорила она, – отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся?
Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, – вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.
– Можно, – сказал Калакутский, – только тебе первый раз надо выпить для храбрости.
– Ну, что же, давай напьемся.
– Приходи ко мне в сумерки.
Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего. – борол он свой страх, – когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.
Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.
– Ну, пойдем?
– Куда пойдем? – спросил Калакутский.
Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.
– А! – вспомнил он вдруг. – Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.
– И не пойдем?
– Нет, отчего же, пойдем, – там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, – они нас, мальчиков, очень любят, только надо теперь же идти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?
– Нет, я думал – нам это нельзя.
– Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?
– Да так, вижу, нет ничего – и вздумал.
– Как нет ничего?
– Учителя – обманщики, сами не верят, а нас учат.
– Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет. Он страшный трус и тоже нашим путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал – они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.
«Вся надежда на водку!» – холодея от страха, думал Алпатов.
Шли сначала по улице, Алпатов спросил:
– А Козел тоже ходит?
– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.
– Как же это? Калакутский расхохотался.
– Неужели и этого ты еще не знаешь?
Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.
– Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, – сказал Калакутский.
Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.
– Скоро весна, – сказал Калакутский, – коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и – в подворотню…
Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.
– Запомни теперь для другого раза, – шепотом учил Калакутский, – этот заячий путь – нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?
– Нет, не боюсь!
– Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.
В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:
– Отвори, Анюта!