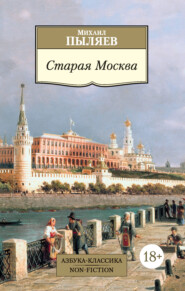По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Замечательные чудаки и оригиналы (сборник)
Автор
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вызванный для войны с Наполеоном, предпринятой для защиты Пруссии, он явился в Петербург и поместился в убогом помещении, в третьем этаже, в плохой гостинице. Женат он был на княгине Щербатовой, и относительно брака судьба его похожа на судьбу Суворова. Супруги виделись довольно редко, однако плодом их супружества были дочь и два сына. Старшего сына отец не любил и, по рассказам Энгельгардта, однажды, когда сын уже был в чинах, граф публично дал ему двадцать ударов арапником за то, что он не явился в срок по какому-то служебному делу. Младшего сына, известного театрала, граф очень любил. Каменский никогда не был любим никем за свой крутой и вместе вспыльчивый и жестокий нрав – фельдмаршал, как и многие вельможи того времени, был не разборчив в своих связях и подпал под влияние грубой необразованной и некрасивой простой женщины Граф М.Ф. Каменский очень верно обрисован Л.Н.Толстым в его романе «Война и мир» под именем князя Волконского.
Большими странностями также отличался командующий на Кавказе и в Черномории генерал Вельяминов, известный славный сподвижник войн 1812 и 1814 гг. Проживая в Ставрополе со всем штабом, генерал высказывал много оригинального в своем характере.
Так, он имел привычку говорить почти всем «дражайший», и его видали только тогда, когда он отправлялся в экспедицию против горцев, иначе он не выходил из комнат занимаемого им дома. Отправляясь в экспедицию, когда спрашивали его подчиненные генералы: «Куда?», он отвечал им: «Дражайший! Барабанщик вам это укажет». В походе он ходил подобно Наполеону I: сверх мундира в сером коротком сюртуке. У него был открытый стол, к которому приглашались все небогатые офицеры и штабные. Сам он никогда не выходил к столу, и кушаньев с этого стола не вкушал, а ему подавали в его кабинет одно особое кушанье – ужа, так называемого желтобрюха, под желтым соусом, откормленного прежде молоком. Это кушанье он чрезвычайно любил. Вельяминов был одинок и умер от полной апатии ко всему.
Герой отечественной войны знаменитый атаман донцов граф М.И. Платов был большой оригинал во многих привычках своей жизни, происходя из казаков, он ревниво оберегал патриархальные нравы своих соотечественников и щеголял настоящей казацкой речью, часто очень нецензурной. Образ жизни его был самый простой. Когда армия наша покинула Москву и первопрестольная столица осветилась заревом пожара, Платов зарыдал, объявив всем окружающим его: «Если кто, хоть бы простой казак, доставит ко мне Бонапартишку – живого или мертвого – за того выдам дочь свою!» Это восклицание главного вождя дошло до Англии, и в 1814 году появился в Лондоне портрет девицы в национальном донском костюме с надписью «мисс Платов», «по любви к отцу – отдаю руку, а по любви к отечеству – и сердце свое». Впоследствии эта дочь Марья Матвеевна вышла замуж за донского генерала Т.Д. Грекова. В 1814 году Платов в свите императора Александра I ездил в Лондон, откуда привез молодую англичанку в качестве компаньонки. Известный партизан Денис Давыдов выразил ему удивление, что, не зная по-английски, сделал он подобный выбор. Я скажу тебе, братец, отвечал он, это совсем не для физики, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благонравная, а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба.
Тот же Денис Давыдов рассказывал, что когда Ростопчин представлял Карамзина Платову, атаман, подливая в чашку свою значительную долю рому, сказал: «Очень рад познакомиться, я всегда любил сочинителей, потому что они все пьяницы».
Глава III
Военные повесы былых времен. – Герой Нечеволодов. – Полковник А-н. – Проказы К.Я. Бултакова
В доброе старое время отличительную черту характера, дух и тон кавалерийских офицеров – все равно, была ли это молодежь или старики – составляли удальство и молодечество. Девизом и руководством в жизни были три стародавние поговорки «двум смертям не бывать, одной не миновать», «последняя копейка ребром», «жизнь копейка – голова ничего!». Эти люди и в войне, и в мирное время искали опасностей, чтоб отличиться бесстрашием и удальством. Любили кутить, но строго помнили поговорки «пей, да дело разумей», «пей, да не пропивай разума». Попировать, подраться на саблях, побушевать, где бы иногда и не следовало, все это входило в состав военно-офицерской жизни мирного времени. Молодые кавалерийские офицеры, по характеристике Ф. Булгарина, в молодости служившего в уланах, и сами того не зная, были почти то же, что немецкие бурши, они точно также вели вечную войну с «рябчиками», т. е. со статскими, как бурши с филистерами. Эта молодежь нашей кавалерии и знать не хотела никакой власти, кроме своей полковой и высшей военной, беспрестанно противодействуя полиции. Буйство хотя и подвергалось наказанию, но не считалось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных условных границ. Стрелялись редко, только за кровные обиды, за дело чести, но рубились за всякую мелочь. После таких дуэлей обыкновенно следовала мировая, шампанское и т. д. Дуэль еще больше скрепляла товарищескую дружбу. По замечанию современников, в те годы не каждый решился бы говорить дурно про товарища и, хотя бы и не прямо в лицо, клеветать заочно и распространять клевету намеками. За офицера одного полка сразу вступались по десятку товарищей. Офицеры в полку принадлежали одной семье, у них все было общее – честь дух, время, труды, деньги, наслаждения, неприятности и опасность. Офицерская честь ценилась очень высоко. Офицер, который бы изменил своему слову, не вступился бы в потребную минуту за однополчанина или обманул кого бы то ни было, положительно не был терпим в полку. В случае крайности, офицеры складывались и платили денежный долг товарища, который впоследствии выплачивал им свой долг. Столпами службы в те времена были эскадронные командиры, многие из них были зрелых лет старики, прошедшие очень суровую военную школу и не раз надевавшие за дуэли и проказы солдаткую шинель, такие в критическую минуту и заменяли молодым офицерам «отцов командиров» не по одной пустой кличке. У эскадронных командиров, по установившемуся издавна обычаю, всегда был открытый стол для своих офицеров; обеды были, положим, неприхотливы: щи, каша, биток да стакан вина. В кавалерии, по отзывам современников, жили не только весело, но отчасти и бестолково; щеголеватость фронта, разные тонкости и порядки в муштре и в службе перенимались армией у гвардии, но выпадали годы особенно после походов, когда и гвардия жила «по-армейски», подражая походной бивуачной жизни. Например, в старину существовал обычай в среде товарищей, хотя и знавших французский язык, говорить между собою всегда по-русски, в силу того принципа, что они – русские офицеры и служат русскому царю и отечеству, тех же, которые употребляли всегда французский язык вместо русского и старались отличиться светскою ловкостью, прозывали «хрипунами». Вообще, чванство, надутость, фанфаронство, важничанье не были терпимы в полках.
В описываемое александровское время у молодых военных повес была великая страсть к так называемым «гросс-шкандалам» с немцами. Петербургские бюргеры и ремесленники любили повеселиться со своими семействами в трактирах на Крестовском острове, в Екатерингофе и Красном Кабачке, военная молодежь ездила туда как на охоту. Начиналось обыкновенно с того, что заставляли дюжих маменек и тетушек вальсировать до упаду, потом подпаивали мужчин, наконец, затягивали хором: «Freut euch des Lebens»,[2 - Радуйтесь жизни (нем.).] упирая на слова «Pflucke die Rose»[3 - Срывай розу (нем.).] – и пошло волокитство, а в конце концов обыкновенно следовала генеральная баталия с немцами. После кутежа всю ночь напролет тройки разлетались в разные стороны, и к девяти часам утра ночные повесы, как ни в чем не бывало, присутствовали на разводе – кто в Петербурге, кто в Стрельне, в Петергофе, в Гатчине. Через несколько дней обыкновенно приходили в полк жалобы, и виновные тотчас же сознавались по первому спросу. Кто был там-то – лгать было стыдно. На полковой гауптвахте частенько бывало тесно от арестованных офицеров. По словам кавалериста той эпохи, в Кавалергардском, Преображенском и Семеновском полках господствовал тогда особый дух и тон. Офицеры этих трех полков принадлежали к высшему обществу, отличались изяществом манер, утонченною изысканностью и вежливостью в отношениях между собою, многие владели французским языком лучше, чем русским. Офицеры же других полков показывались в обществе только по временам, предпочитая жизнь товарищеской среды, жизнь нараспашку. Конногвардейский полк держался нейтрально, соблюдая смешанные обычаи. Но зато лейб-гусары, лейб-уланы, лейб-казаки, измайловцы и лейб-егеря жили по-армейски и следовали тому духу беззаветного удальства, который являл собою главнейшую черту военного характера этой эпохи, которую так пылко и ярко воспел в своих стихах Денис Давыдов. О похождении кавалергардских офицеров сохранилось много рассказов; особенно шалости их в Новой Деревне и на Черной речке в свое время наделали много шума. На Черной речке в конце двадцатых годов по ночам стал разъезжать черный катер с поставленным на нем черным же гробом; гребцы, сидевшие с факелами около гроба, все заунывно пели «Со святыми упокой» и этим будили и пугали крестьян и дачниц… Вскоре узнали, как это рассказывает в своих воспоминаниях дочь графа Толстого, что факельщики эти были не кто иные, как молодежь-кавалергарды, а в гробу почил не покойник, а шампанское. Днем они тоже не сидели спокойно, а с криками и шумом галопом носились на своих собственных пожарных трубах, все стоя на ногах, в сюртуках без эполет, в голубых вязаных шерстяных беретах с серебряными кистями. Проказы молодых повес нередко пробирались и на дачи, где тогда жили актрисы французского театра. По тогдашним рассказам, веселая мундирная молодежь иногда пробиралась ночью в палисадник хорошенькой дачки, занимаемой одною известною итальянскою певицею, и, сняв осторожно ставни, любовались ночным туалетом красавицы; то устраивали засады в женских купальнях, то врывались через окошко в спальню какой-нибудь молоденькой дамы и затем учтиво извинялись ошибкой, полагая, что здесь живет их товарищ. Подобные проказы сходили в то время зачастую без особых последствий, но кто-то раз довел о них до сведения великого князя Михаила Павловича; тот доложил государю, и дело разыгралось для повес совсем неожиданным образом. Однажды ночью их всех потребовали в ордонансгауз, и когда они явились, без дальних объяснений посадили их на почетные тележки вместе с фельдъегерями, и борзые тройки умчали их из Петербурга. Из таких шалунов был отправлен на Кавказ поручик Жерве; последнего вез целые две недели угрюмый фельдъегерь, не говоря куда он везет, и только когда он перенесся через Кавказские горы и приехал в Карагач и сдал его полковому командиру, Жерве узнал свою участь.
Многие из таких военных повес ссылались на Кавказ с лишением офицерского звания, прямо рядовым; понятно, это делалось не без суда. Из числа таких людей, замечательным по превратности своей судьбы, как рассказывает В. Потто, был некто Нечеволодов, служивший на Кавказе в 1822 г. Когда ему было более сорока лет, он был только простым рядовым. Жизнь его была полна приключений. Родился он в 1781 году, в Харьковской губернии, и жил в родительском доме брошенным без всякого призора. Рос он веселым, буйным и своенравным ребенком; четырнадцати лет от роду его взял к себе дядя, к великой радости соседей, не имевших от него покоя. Через четыре года Нечеволодов был уже офицером и участвовал в походе Суворова; здесь, при защите крепости Бреста, он поместился в амбразуре и, как отличный стрелок, бил оттуда французов на выбор, но вдруг ядро, пущенное с неприятельской батареи, сбило амбразуру, и ветхая каменная стена рухнула и придавила его; его вытащили полураздавленного и едва живого. В Италии Нечеволодов участвовал с Суворовым не раз в сражениях, переходил с ним Альпы, Чертов мост и из уст знаменитого полководца несколько раз слышал благодарность и похвалу. Окончил войну поручиком с брильянтовыми знаками св. Анны 2-й степени на шее, – награда в этом чине в то время была исключительная; пред ним развертывалась блестящая военная карьера, но обстоятельства сразу разрушили все честолюбивые надежды. Семейные предания смутно передают только, что это была какая то роковая дуэль, чуть ли не с родным братом, окончившаяся тем, что он получил сабельные удары в голову, а противник был изрублен насмерть. Нечеволодов был лишен чинов, орденов и сослан в далекий пустынный город Колу. Жизнь ему здесь не полюбилась, и он бежал на корабле в Англию, где, не имея средств к существованию, нанялся волонтером в английские войска, готовившиеся к отплытию в Индию. Его сюда хотя и манили помыслы, но план службы ему не удался. Слух о его похождениях дошел до нашего посла, графа СР. Воронцова, и он потребовал его к себе. Воронцов сумел оценить ум, таланты, даже пылкость нрава молодого несчастливца, отговорил его от его мечтаний, взял с собою в Россию и выпросил ему у императора Александра I полное помилование. В 1803 году он был определен с прежним чином в 20-й егерский полк, но ордена не были ему возвращены. К этому времени относится первая его романическая женитьба на одной из польских магнаток, графине Тышкевич. Гордая родня не соглашалась на брак с русским, но Нечеволодов, при помощи товарищей, увез графиню из ее великолепного замка и повенчался с нею в бедной деревенской церкви. Пока шло венчание, церковные двери были заперты наглухо и, на случай погони за беглянкой, стояли у них на страже офицеры-товарищи. Затем наступают беспрерывные боевые походы и ряд новых сражений, в которых он добывает себе старые суворовские ордена, чин капитана.
В 1813 году он находился в составе летучего корпуса Платова. Кампания не обошлась для него без новых ран и увечий. Под Лейпцигом он в одной из атак был окружен французами, сбит с лошади тупым концом пики, и через него пронесся целый уланский полк; каждый француз считал своим долгом кольнуть его пикой или ударить саблей. Ударов этих было так много, что Нечеволодов был превращен, можно сказать, в кусок битого мяса. Но, при быстрой скачке французов, ни один удар не был смертельным; Нечеволодов догадался надвинуть на голову кивер и этим, быть может, обязан спасением себе жизни. Через несколько дней, несмотря на раны, он с лихвой отплатил неприятелю – он со своими солдатами положил лоском более 280 человек и 180 нижних чинов с офицерами и полковым командиром были им захвачены в плен. Он за это дело получил вторично орден св. Владимира и чин подполковника. Но страшная судьба опять вмешивается в блестящую его карьеру. По возвращении из Франции он был переведен в один из драгунских полков, где он и проиграл 17 тыс. казенных денег. Его опять разжаловали в рядовые. Государь, помня его молодецкую боевую службу, приказал перевести его на Кавказ, где, после одного геройского дела, Ермолов просил о полном и безусловном его помиловании, но его только произвели в прапорщики – и после четырех лет службы он возвратился в полк опять майором и с теми орденами, что заслужил еще при Суворове. Нечеволодов кончил жизнь в 30-х годах в с. Карагаче, на Кавказе; он был женат вторично на черкешенке.
В двадцатых годах командовал правым флангом большой чудак генерал-лейтенант Засс, имя которого туземцами произносилось стрепетом и им даже пугали маленьких детей. В доме его постоянно преобладала какая-то таинственность; часто случалось, что при гостях его вызывали, и он вдруг пропадал на неделю и более. В его комнатах и во всех углах постоянно дежурили загадочные лица. Засс нарочно окружал себя тайной, чтобы сохранить к себе поболее уважения и страха, а эти два чувства сильно действуют на толпу. Про него существует много рассказов, почти половина которых, конечно, выдумки, но во всех их проглядывает какое-то таинственное влияние, которого и добивался Засс. Он разными шарлатанствами успел уверить всех сынов Кавказа, что сам знается с шайтаном и может узнавать их сокровеннейшие мысли. Часто он дурачил у себя диких горцев с помощью новейших открытий наук и не пренебрегал ни электрическою машиною, ни вольтовым столбом, ни гальванизмом. В поддержание проповедуемой Зассом идеи страха, на нарочно насыпанном кургане у Прочного Окопа постоянно на пикахторчали черкесские головы и бороды их развевались по ветру. Тяжело и грустно было смотреть на это отвратительное зрелище. Войдя однажды в его кабинет, как рассказывал один из его друзей, все были поражены каким-то нестерпимым отвратительным запахом, но хозяин, смеясь, вывел всех из недоразумения, сказав, что люди его, вероятно, поставили под кровать ящик с головами, и, в самом деле, вытащил пред гостями огромный сундук с несколькими головами, которые страшно смотрели на всех своими стеклянными глазами.
– Зачем они здесь у вас? – сказал кто-то из присутствующих.
– Я их вывариваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам и друзьям-профессорам моим в Берлине.
Шутки Засса, нельзя сказать, чтобы отличались большим разбором и нередко могли стоить жизни человеку, с которым они были сыграны. У него проживал в доме старинный друг его, майор в отставке; майору, наконец, надоела вечная суета у Засса, и он решился расстаться с другом и уехать в ближайший город. Приближались праздники, майор получил приглашение от Засса приехать погостить к нему и отпраздновать Мартына Лютера жареным гусем с яблоками и черносливами. Майор собрался и пустился в дорогу; не доезжая до станицы, на экипаж мирного старого майора нападает партия черкесов, завязывают ему глаза и рот, берут в плен и связанного мчат в горы; пленник, окруженный толпою горцев, громко говорящих на своем варварском наречии, предался горькому жребию и был ни жив, ни мертв; наконец, он чувствует, что находится подле огня, который несколько его согревает, а шум и спор между похитителями продолжаются; вероятно, думает бедный старик, они делят меня и спорят о праве владеть мною. Но вдруг снимают с него повязку и, к удивлению майора, представляется кабинет Засса и он сам, довольный, смеющийся генерал и много казаков. Майор рассердился на злую шутку, плевался, бранился самыми отборными словами и едва было не рассорился со своим другом, который только и умилостивил своего разгневанного земляка-курляндца, что если б, чего Боже сохрани, подобная беда разразилась бы над майором в самом деле, то дружба заставила бы непременно освободить его из плена. Вкусно приготовленный гусь помирил друзей, однако майор долго прохворал от душевных тревог или от несварения желудка – неизвестно.
В тридцатых годах проживал на Кавказе отставной полковник, некто А-ни, родом рагузинец, долго служивший в Черногории. Этот человек был замечателен тем, что очень счастливо играл во все игры в карты. По недоверию к нему играющих, когда приходила очередь сдавать ему карты, то он надевал на руки перчатки. Игрою в карты и разными пари он составил себе очень недурное состояние. Много денег он выиграл, держа самые сумасбродные пари. Так, он раз держал заклад, что проведет целый год на лошади, отдыхая только пять часов в сутки, – и выиграл. В другой раз он держал пари, что взойдет на крутую гору, делая три шага вперед и два назад, – и тоже выиграл. Он бился на заклад в несколько тысяч, что, привязанный к двум лошадям, он проскачет известное расстояние вскачь, рискуя быть разорванным во всякую минуту, – и тоже выиграл. Он держал пари в Таганроге с известным богачом А-ки, что в течение полугода будет питаться маслинами и корнем салепа, первых съедая полфунта, а второго пять золотников, и тоже остался с выигрышем.
В тридцатых годах в гвардии служил блестящий офицер Константин Яковлевич Бултаков, большой повеса и остряк, которого великий князь Михаил Павлович называл ужасное дитя. Фарсы Бултакова почти ежедневно рассказывали все в городе, разумеется, люди военного общества. Вот несколько проказ Бултакова. Раз, после попойки, он возвращался пешком с двумя приятелями из гостей ночью по Петербургской стороне. В числе его приятелей был известный силач артиллерист Чагин. Вдруг увидели они круглую будку будочника со спавшим в ней часовым, отложившим в сторону свою алебарду. Им пришло в голову, в особенности Бултакову, своротить будку на землю, но так, чтобы дверь пришлась плотно на мостовую. При помощи такого силача, каков был Чагин, им это удалось. Бедный будочник в этой могиле поднял страшный крик, разбудивший всех окрестных дворников, поднявших будку и освободивших полумертвого часового. И только дядя Бултакова (почт-директор) упросил тогда обер-полицмейстера замять эту историю, кончившуюся смехом.
Из числа анекдотов о бултаковских повесничествах известен следующий. Император Николай Павлович, заметив, что офицеры стали носить сюртуки до того короткие, что они имели вид каких-то камзольчиков, обратил на это внимание великого князя Михаила Павловича. По гвардейскому корпусу был отдан приказ с определением длины сюртучных пол, причем за норму был принят высокий рост. Военные портные тотчас же смекнули ошибку в приказе и, не пользуясь ею, стали шить сюртуки длины пропорциональной росту заказчика. Но шутник Бултаков, рост которого был гораздо ниже среднего, потребовал от своего портного сюртука точь-в-точь с полами именно той длины, какая определялась приказом, почему полы его сюртука покрывали ему икры и он был карикатурен до комичности, гуляя по Невскому и возбуждая смех не только знакомых, но и незнакомых офицеров. Едва успел он раза два пройтись в таком виде среди гуляющей публики по тротуару Невского проспекта, как попался навстречу великому князю, который, увидя его в таком шутовском наряде, воскликнул: «Что это за юбка на тебе, Бултаков? На гауптвахту, на гауптвахту, голубчик! Я шутить не люблю». – «Ваше высочество, я одет как нельзя более по форме и наказания, ей-богу, не заслуживаю», – возразил почтительно Бултаков, держа пальцы правой руки у шляпы, надетой по форме. «Я одет согласно приказу по гвардейскому корпусу. И вот доказательство!» При этом он вынул из кармана пресловутый приказ и подал великому князю. Его высочество, прочитав приказ, засмеялся, назвав Бултакова шутом гороховым и приказал ему вместо гауптвахты тотчас же ехать к корпусному командиру и чтобы тот немедленно сделал дополнение к приказу с обозначением трех родов роста.
В другой раз, Бултаков, куда-то торопившийся, забыл вдеть в портупею шпагу и шел по улицам без шпаги. На беду его ветретил великий князь. «Офицер расстается с своею шпагой или саблей только в двух случаях: в гробу и под арестом!» – воскликнул он. – «В гроб тебя я не положу, а на гауптвахту посажу, но прежде отправления на гауптвахту в Чекушу, я хочу дать тобою полюбоваться твоему полковому командиру и полковым командирам всей гвардии. Садись ко мне в коляску». Бултаков сел в коляску великого князя, который и привез его в Михайловский дворец и, сказав: «ты мой арестант», оставил его в своем кабинете, а сам вышел в приемный зал, где его уже ожидали полковые командиры, ежедневно являвшиеся к нему перед разводом. Великий князь долго говорил им о распущенности гвардейских офицеров и в подтверждение своих слов обещался показать одного такого. Говоря это, он отворил дверь своего кабинета и позвал Бултакова, который смело выступил для осмотра. «Любуйтесь, любуйтесь вашим офицером», – сказал великий князь полковому командиру Московского полка, где служил Бултаков. Генерал, осматривая провинившегося офицера со всех сторон и во всех подробностях, не находил провинности в амуниции.
– Ну, видел, каков молодец! На месяц на гауптвахту.
– Ваше высочество, – объяснил полковой командир, – я не нашел в нем никакой ошибки.
– Ты и не мог найти того, чего нет, – вскричал великий князь. – А где же его шпага?
– Шпага на своем месте, – отвечал начальник Бултакова. И действительно Бултаков был при шпаге. Великий князь назвал его новым Пинети, приказал командиру взять шпагу и возвратить тому офицеру, которого арестовал вчера, и ославил его шпагу в кабинете у себя, позабыв отослать к коменданту.
– А все-таки пусть Пинети отправится на гауптвахту на Сенную, и я, может быть, постараюсь одурачить этого фокусника.
На другой день Бултаков отбыл свое дежурство как нельзя более счастливо. Но, однако, спустя некоторое время Бултакову снова надо было быть в дежурстве на той же гауптвахте. День пришелся как раз в именины Бултакова, и вот, зная, что великий князь в Павловске, Бултаков устроил такой фестиваль, что перепоил всех, включая солдат и арестованных. Великий князь, ночью возвращаясь из Павловска, заехал на Сенную, где нашел всех полупьяных и спящих; он распорядился, за отсутствием часового у барабана, своему лакею взять барабан и отвезти его в Павловск. На следующее утро в Московском полку получается приказ, чтобы к 12-ти часам полк был на полковом дворе в сборе. Бултаков, проспавшись, понял, какое ожидает наказание. Он призывает к себе одного из рядовых, у которого на дежурстве пропал барабан. Рядовой во всем полку пользовался репутацией отъявленного вора. Бултаков обещал ему 25 руб. награды, ежели до смотра барабан будет, а если нет, то получит строгое наказание. Часа через два рядовой имел двадцатипятирублевую бумажку. Он ловко украл его в Гвардейской артиллерийской батарее. При осмотре рота была с барабаном. Изумленный великий князь потребовал объяснения у Бултакова, который, принимая вину на себя, объяснил, как было дело. В другой раз великий князь встретил кутящего в компании, в ресторане, Бултакова в сюртуке за несколько верст от лагеря. «Как ты здесь, Бултаков, ведь ты в лагере дежурный по полку! Хорош гусь, хорош!» И вслед затем он крикнул кучеру: «В лагерь, живо, к Московскому полку». – Коляска быстро донесла великого князя до лагеря, гневный великий князь крикнул: «Дежурные по полкам сюда!» Мигом все дежурные в форме собрались к великому князю, и в числе их был и Бултаков. Великий князь глазам своим не верил и, вышедши из коляски, отозвал Бултакова в сторону и сказал ему: «Даю тебе, Бултаков, слово, что тебе ничего не будет за твою неисправность, скажи мне только, каким образом ты здесь в одно время со мною?» – «Самым простым образом, ваше высочество, – отвечал Бултаков, – вы сами меня привезти изволили в вашей коляске, только на запятках». Существовал и другой вариант такого же случая с Бултаковым. Однажды его высочество был в театре, и, к его удивлению, Бултаков сидел напротив в ложе, хотя, по распоряжению великого князя, должен был сидеть на арсенальной гауптвахте под арестом. Великий князь выходит изтеатра и едет на гауптвахту. Бултаков опять в караульной. Его высочество возвращается в театр, и снова Бултаков напротив него в ложе; великий князь вторично едет на гауптвахту и опять застает Бултакова спокойно сидящего под арестом. Удивленный этим, великий князь спрашивает Бултакова: «Я тебя прощу; скажи, как ты это сделал?» – «Очень просто, ваше высочество, я всякий раз ехал у вас на запятках». В другой раз великий князь встречает его на Невском; Бултаков делает ему фронт, великий князь замечает, что он одет не в порядке; он сажает его к себе в сани, Бултаков не успел еще сесть, как великий князь оттолкнул его и уехал. «Ну, что?» – спрашивает его товарищ. «Его высочество лично хотел посадить меня под арест и приказал сесть к нему в сани, а я нечаянно наступил ему на мозоль, он меня выбранил, а я ему в ответ: имею счастье доложить вашему императорскому высочеству, что надо мной оправдалась пословица: „Не в свои сани не садись“, его высочество рассмеялся и оттолкнул меня».
Михаила Павловича немало забавляла находчивость этого офицера.
Однажды Михаил Павлович встречает Бултакова у Аничкина моста. На этот раз его высочество видит, что Бултаков в полной форме с головы до ног. «Ваше высочество, – говорит он, подойдя к нему, – осмелюсь просить оказать мне великую милость: дозвольте пройти с вами по Невскому». – «Для чего тебе это нужно?» – спрашивает его великий князь. – «Чтоб поднять мой кредит, который сильно упал». Великий князь дозволил ему дойти до Казанского моста.
В двадцатых годах особенным повесничеством отличались армейские гусары; изящная внешность мундира, щедрость, лихость и беззаветная удаль были отличительными их признаками; жизнь кавалеристов тех годов текла, как веселый пир. Удаль гусарская посейчас слывет чуть не пословицей. Вероятно, небезызвестен читателям факт, как один молодой офицер побился об заклад, что проскачет нагим по Петербургу, и выиграл пари. По рассказам современников, гусары в Варшаве устраивали на улицах целые облавы на женщин, оставляя более красивых в плену; в евреев, приходивших за получением долгов, прямо стреляли, только не пулями, а солью; по узким мостовым носились в карьер на четвернях, сокрушая все попадавшееся на пути. Для развлечения в театр привозили с собой громадные астрономические трубы и в них рассматривали дам. Известный эксцентрик гусар Лунин иначе не выходил гулять в Вилановский парк, как в сопровождении большого ручного медведя: владетельница его приказывала запирать все окна и двери при виде косматого гостя на прогулках. Изобретательность гусар достигла однажды до того, что они устроили бал в одном из губернских городов в квартире командира полка и пригласили весь город. Чтобы избавиться от ревнивых взоров маменек, папенек и тетушек, а также, чтобы иметь более свободного пространства для танцев, придумано было следующее: когда гости съехались и мамаши чинно расселись с ридикюлями в руках по длинным, обтянутым сукном, скамьям с платформами, раздались страшный визг и крики: десяток дюжин гусар вздернули на блоках всех маменек на платформах к потолку, где они оставались во все время бала и только с птичьего полета могли наблюдать за танцующими. В старые годы нетолько что юный корнет проказничал, но были кавалеристы, которые не покидали шалости даже в генеральских чинах.
Глава IV
Эксцентричности князя В-ского. – Странности графа Бенкендорфа. – Замечательная рассеянность графа Лонжерона и графа Остермана. – Оригинал Козловский
Из оригиналов двадцатых годов в Петербурге был довольно известен вельможа екатерининских времен, князь В-ий, генерал-аншеф, отличавшийся различными эксцентричностями, которые, впрочем, не мешали ему быть всеми любимым за его доброту и ум. Князя можно было встретить во всякую пору года разъезжавшим по Петербургу с обнаженною седою как лунь головою, высокий лакей в военной ливрее, стоявший на запятках, держал торжественно над его головою генеральскую шляпу с огромным белым султаном. Сам же князь почти всегда имел в руке калач, морковь или яблоко, которое изволил жевать во время езды в открытой коляске, запряженной шестернею с двумя форейторами, предлинноногими парнями, а горбатый кучер-карлик с подвязанною черною широчайшею бородою сидел на козлах и покрикивал на форейторов.
У В-го была одна загадочная привычка, которая была всеми замечена. Каждое утро, ровно в 11 часов, появлялась на Невском его коляска, в ней сидел один князь. Поровнявшись с собором, коляска поворачивала налево и, подъехав под колоннаду, которая выходит на Казанскую улицу, останавливалась под колоннами. Там генерал выходил и на некоторое время скрывался за экипажем. Проходящие по улице обходили колоннаду. Затем князь садился в коляску и уезжал обратно. Это случалось каждый день, час в час, минута в минуту.
Этот князь, будучи андреевским кавалером с времен императора Павла I, так любил этот орден, что носил его звезду не только на мундире, но и на шубе, халате, ватном сюртуке, надеваемом на случай холода. Князь очень любил быть на воздухе, несмотря ни на какую непогоду, и у себя в саду он обедывал, ужинал и проводил большую часть дня. Посещавшим его гостям тоже нередко приходилось делить с ним там часы, и когда гости видимо зябли с ним, он приказывал подавать свои теплые вещи, сюртуки, халаты с нашитыми звездами. Таким образом, все прозябшие его гости превращались в импровизированных андреевских кавалеров.
В числе лиц отличавшихся чрезвычайною рассеянностью, известен отец графа А.Хр. Бенкендорфа, один из самых близких людей при дворе Павла Петровича и Марии Федоровны. Однажды он был у кого-то на балу. Бал окончился довольно поздно, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор не вязался, оба хотели отдохнуть и спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй пойдем». В кабинете было им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением. Хозяину нельзя было сказать ему напрямик, что пора ехать домой.
Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился ему заметить:
– Может быть, экипаж ваш еще не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету.
– Как вашу карету? Да я хотел предложить вам свою. Дело объяснилось, оказалось, что Бенкендорф воображал, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся.
Бенкендорф был до того рассеян, что раз, проезжая какой-то город, зашел на почту узнать, нет ли там писем на его имя. «А как ваша фамилия?» – спрашивает его почтмейстер. «Моя фамилия», – повторяет он несколько раз и никак ее не может вспомнить, с тем и уходит из почтамта. На улице встречается он с знакомым, у которого он и спрашивает, как его фамилия, и, узнав, тотчас же бежит на почту.
В последние годы своей жизни, проживая в гор. Риге, ежегодно в день тезоименитства и день рождения императрицы Марии Федоровны он писал ей поздравительные письма. Но он был чрезвычайно ленив на письма и, несмотря на верноподданнические чувства, очень тяготился этою обязанностью, и когда подходили сроки, мысль написать письмо беспокоила и смущала его. Он часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и скорее».
Известный одесский военный генерал-губернатор граф Ланжерон также был чрезвычайно рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что нередко делало его очень, смешным и подавало повод к разным анекдотам и комическим сценам.
Раз у него был обед, на котором было несколько иностранных негоциантов. За обедом он выхвалял удовольствия одесской жизни и, указывая на негоциантов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его, в то время был он особенно озадачен просьбою о прибавке ему столовых денег – «А не дадут мне прибавки, я этим господам, – стал он мыслить вслух, – и этого не дам!». При этих словах схватил с тарелки своей косточку, оставшуюся от котлетки.
Кто-то застал его в кабинете – он сидел с пером в руках и писал отрывисто, с размахом, и после подобного размаха повторял на своем ломаном русском языке: «Нье будет, нье будет». Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если бы его пожаловали в это звание, и вместе с тем чувствовал, что никогда фельдмаршалом ему не бывать.
В другой раз, чуть ли не в заседании какого-то военного совета, заметил он собачку под столом, вокруг которого сидели присутствующие члены. Сначала он неприметно для других стал пальцами призывать ее к себе, затем стал ласкать, когда она подошла, и вдруг, причмокивая, обратился к ней с ласковыми словами. Все эти выходки Ланжерона не сердили, а только забавляли и смешили зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего и храброго генерала. В турецкую войну, в армии, известно сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание, ему данное: «Вы пороху нье боитесь, но за то вы его нье видумали».
Ланжерон был умный и довольно деятельный генерал, но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами – он от них прятался или скрывался из дому, выходя по черной лестнице, и пропадал из дому на несколько часов. Во время турецкой войны молодой Каменский у него в палатке объяснял планы будущих военных действий. Как нарочно на столе лежал французский журнал. Ланжерон машинально раскрыл его и напал на шараду. Продолжая слушать положение военных действий, он невольно занялся разгадыванием шарады. Вдруг, перебивая Каменского, вскрикнул он: «Что за глупость!» Можно представить себе удивление Каменского. Но вскоре дело объяснилось, когда он узнал, что восклицание относилось к глупой шараде, которую он разгадал.
Во время своего начальства в Одессе был он недоволен чем-то купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор «Какой ви негоцьянт, ви маркитант, – начал он свою речь, – какой ви купец, ви овец», – и движением руки своей выразил козлиную бороду.
В приезд Александра I в Одессу, как рассказывал князь Вяземский, был приготовлен для него дом, занимаемый Ланжероном. Встретив государя и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, он откланялся, вышел из кабинета и, по своей привычке, запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени взаперти, но наконец постучался, и его освободили из заточения. Встречая же государя, он хотел представить его величеству рапорт о благосостоянии вверенного ему края, долго искал в своих карманах и, не найдя, сказал: «Право, не знаю, государь, куда положил мой рапорт». Император улыбнулся и пожал руку покорителю Монмартра.
Граф Ланжерон по происхождению был француз, вступил на службу при Екатерине в 1785 году прямо в чине полковника и вскоре успел в наших войсках стяжать славу храброго и распорядительного офицера. Граф Ланжерон участвовал почти во всех наших войнах при императрице и двух императорах и в течение многолетней своей боевой службы и девятнадцати сделанных им походов заслужил все знаки отличия и много сделал в мирное время в бытность свою градоначальником Одессы.
Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть перед собою во многих сражениях, не оставался равнодушным перед холерою. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал духовное завещание, начинающееся так: умирая от холеры и пр. Предчувствия его не обманули, уже в отставке, прибыв в Петербург в 1831 году, он внезапно заболел и скончался также скоропостижно 4-го июля. Император Николай I приказал его останки похоронить в Одессе, в католической церкви.
Необыкновенною рассеянностью славился также граф Федор Андреевич Остерман. Особенно последняя одолевала его под старость, так что садясь в кресла, часто кричал, чтобы везли его в сенат, чесал за обеденным столом ногу у соседа, вместо своей ноги, плевал в его тарелку, выходил на улицу из кареты и более часа неподвижно стоял подле какого-либо дома, уверяя лакея, что он еще не кончил своего занятия, между тем как с крыши лил дождь, являлся иногда в гости в таком наряде, что приводил в стыд прекрасный пол, вступал с хозяином в ученый разговор и, не окончив, мгновенно засыпал. Остерман очень любил науки и вел переписку на латинском языке с митрополитом Платоном, у которого в старости учился богословию. Рассеянность его была просто изумительна. Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано посредине полотно, он принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать его в карман. Только общий хохот присутствующих дал ему опомниться. В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как войти в гостиную, зашел он в уединенную комнатку. Там оставил он свою шляпу и вместо ее взял деревянную крышку и, держа ее под мышкою, явился с нею в гостиную, где уже собралось все общество. Граф Остерман, несмотря на свою безмерную доброту, иногда умел быть и злопамятным. Думая, что граф Кутайсов был его врагом в царствование императора Павла I, он его не принял к себе, когда тот сделал ему визит, проживая в Москве в царствование Александра I, но тотчас же после его визита прислал ему свою карточку. После того Остерман продолжал в большие праздники посылать ему ответные визитные карточки. Остерман жил очень открыто, и каждое воскресенье у него были обеды на пятьдесят и более кувертов. Раз кто-то, разговаривая с Кутайсовым о его странном платеже визитов Остерману, выразил удивление, что граф сам не поедет когда-нибудь в воскресенье обедать к гордому барину? «Ну, как я поеду? Остерман никогда не зовет меня». – «Э, ничего, – отвечал тот, – никто не получает приглашений на его воскресные обеды и все к нему ездят. У него дом открытый». Думал, думал Кутайсов и поехал к Остерману перед самым обедом. В гостиной Остермана тогда уже сидели все тузы и вся сила Москвы. Кутайсов вошел. Остерман как увидел незваного гостя, тотчас с приветствиями пошел навстречу к нему, усадил его на диван и, разговаривая с ним, через слово величал «ваше сиятельство, ваше сиятельство»… Долго ждали обеда… Наконец камердинер доложил, что кушанье готово. «Ваше сиятельство, – сказал Остерман Кутайсову, – извините, что я должен оставить вас, теперь я отправляюсь с друзьями моими обедать». И, приветливо обращаясь к другим гостям, проговорил «Милости просим». Граф Кутайсов остался один в гостиной. Он не помнил, что с ним было и как его привезли домой.
Отец этого Остермана, известный дипломат, отличался тоже большими странностями и необыкновенною неряшливостью. Комнаты его были постоянно не прибраны и грязны, прислуга ходила в лохмотьях, серебряная посуда, которую он каждый день употреблял, походила на оловянную, и только в торжественные дни был у него порядочный обед. Одежда графа, особенно под старость, так была замарана, что поселяла во всех отвращение.