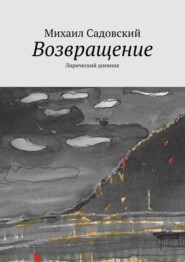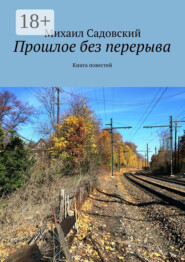По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пока не поздно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ты шёл рядом с телегой от самой пристани и смотрел на девочку и не решался сказать ни слова. Потом, совершенно не раздумывая, запустил руку в карман и вытянул оттуда свои сокровища: обломок чёрного вара с налипшими на его блестящие грани соринками. Его можно было жевать и жевать, и сладко глотать копившуюся слюну, а ещё кусок порядочно обгрызенного жмыха, который ты оставил «на потом», потому что до ужина больше нечем было подкрепиться… ты уже протягивал это богатство Мальвине, но чья-то рука остановила твою – ты же не знал, что это смерть для девочки! Ты знал, что можно умереть от голода, но от еды?! Как это так?..
И она не понимала мутившимся от голода сознанием, что хочет этот мальчишка, идущий рядом с телегой и глядящий на неё неотрывно, даже когда он вдруг чуть не падал, потому что нога попадала в ямку, рытвину на дороге или на склон канавки, бегущей сверху вниз и промытой ещё прошлогодними дождями…
В то время ты ещё не мог никак сформулировать, что произошло, и не было у тебя тех слов, что пришли позже, а было только «дружить». Но память так уверенно, убеждённо скрывала провалы времени и сводила вместе не столько события, но чувства, что теперь, много позже, когда она подхватила тебя, и перемешала, переместила внутри дни, недели, месяцы, проведённые рядом с Ниночкой, ты не мог ответить на простой вопрос, а может, просто боялся сформулировать ответ и, услышав его, передумать или понять, что не всякому безумию есть оправдание. Если это была любовь, то пусть бы она так и осталась ангельски чистой и вечной. Вечной, потому что её бы хватило на весь твой век, длинный или короткий – ты не знал, но на весь век. И даже если ты встретишь потом кого-то (ну конечно встретишь), эта девочка никогда не отступит и не потускнеет в памяти, и ты будешь, как уже привык, искать её взглядом в толпе на улице, в зале кинотеатра или на концерте, оглядывая сверху ряды партера, в газетах и всяких хрониках, на афишах, в книгах на обложках, в сводках спортивных соревнований и рекордов… при том, что это происходило уже помимо твоей воли, интуитивно, это стало нееобходимым и незаметным, как дышать, жмуриться от яркого света… Мало ли где могла появиться взрослая Ниночка.
И вдруг необъяснимо в июньский первый день отпуска ты вышел из дома, доехал до конечной станции метро, а дальше зашагал по обочине шоссе, пересёк по мосту реку и уже за будкой ГАИ остановился, повернулся на сто восемьдесят градусов, то есть лицом к городу, из которого только что вышел, и поднял руку, чтобы остановить машину.
Первому же водителю грузовика, что остановился и согласился тебя подбросить по дороге, а это выходило примерно треть пути, ты не знал, как объяснить, куда и что тебя гонит. Он коротко отреагировал, оглядев тебя:
– Бывает! Не дрейфь! – поддержал он тебя – помнишь (!) – он подмигнул тебе, как бы уже войдя в твою тайну, зачем-то быстро снял кепку и снова накинул её обратно на голову, натянув козырёк пониже на лоб. – Я сам такой! Счастливо!
В гостинице на Лиговке табличка отсекала любого, кто имел напрасную надежду провести ночь в постели. В углу под пальмой круглые сутки была густая тень и под ней до одиннадцати, «часа проверки номеров на наличие гостей», можно было спокойно подремать. На расстоянии десяти шагов проходили люди, слышались их приглушённые голоса, шарканье ног, сожалеющие вздохи, стук чемодана, поставленного на пол, и незлобное шипение входных дверей.
Сквозь полудрёму ты почувствовал, что кто-то стоит рядом, и незаметно посмотрел из-под опущенных век – видно было только ноги, обутые в обыкновенный «Скороход», и манжеты серых брюк, опиравшихся на шнуровку на подъёме.
– Всё сидите? – человек был совершенно квадратного формата.
– Мне уже пора? – отреагировал ты, думая, что это портье.
– Вы ждёте кого-то? – человек чуть склонился набок, чтобы лучше рассмотреть твоё лицо.
– Нет, – надо было уйти, не дожидаясь, пока тебя вытурят, а то завтра не пустят. Человек не предпринимал ничего, а только разгдядывал тебя.
– Верно! – надо вовремя уйти!
– А вы что – умеете читать мысли?
– Могу и это!
– Понял! – ты уже стал подниматься.
– Что, не верите? – в голосе слышалась неоскорбительная усмешка. Он протянул руку ладонью кверху. – А паспорт имеется?
«Всё же проверка!» – подумал ты и только фыркнул в ответ.
– Нет, не проверка – он, видимо, умел читать мысли… – Паспорт! – он приказно подставил ладонь протянутой руки, потом положил твой паспорт во внутренний карман пиджака, той же ладонью остановил твоё намерение подняться с места и направился к стойке. Через двадцать минут он вернулся и жестом пригласил следовать за ним…
На красной ковровой дорожке второго этажа ты сказал ему в спину:
– У меня нет денег на номер! Извините, вы зря беспокоились, – но…
Человек не обернулся и опять ладонью будто подгрёб идущего сзади.
– Будешь ночевать со мной в номере. Диван устроит?
– Вы что, волшебник или партийный босс?
– Что-то вроде этого, – сказал он, пропуская тебя в дверь, и представился уже в прихожей: – Анатолий Маркович… Гузевич… а по поводу босс – интербригадовец. Нас мало уже осталось, и поэтому, очевидно, берегут. Как реликвии. Про интербригаду слышал?
– Не очень…
– Значит, не слышал. Не мудрено… Нас мало, действительно. Кто погиб, кого погубили. Сейчас пойдём ужинать, а разговоры потом… Ночью, если не заснёшь… я не сплю ночами… слушаю тишину чутко… привычка…
Ты просто прежде таких людей не встречал, и поэтому всё казалось странным: эта неожиданная опека, какая-то давняя химера, которая не потеряла силу с годами, и доверие без расспросов, и расспросы ночами не из любопытства…
– Читал «По ком звонит колокол»? Ну, да не издавали… но уже написано и живёт на свете… И переведут обязательно, и издадут… Есть на свете вещи, которые нельзя не сделать…
Почему-то легко и просто было рассказывать этому незнакомому, даже проще, чем другу, и хотелось рассказывать, даже подробнее, чем самому себе, присоединяя к событиям ещё и своё ощущение происходившего, и след, оставшийся, как нить Ариадны, чтобы размотать клубок, опутавший душу.
– Так тебе всё равно куда, – говорил Анатолий Маркович, – в любую сторону твоей души… Целенаправленно искать – бесполезно – просто ходи по улицам и глазей, если узнаешь… Столько лет прошло! Узнаешь?.. Может быть… Но, по-моему, не найдёшь… Если только роман об этом напишешь или повесть, издашь в журнале, так, чтоб из рук рвали, а за славой и шансы возрастают, пока на вершине будешь… но это недолго… не найдёшь ты её! Это только, если судьба усмехнётся и пошутит над тобой…
На Заневском была провинция – не Ленинград, может, не Тула или уже растущие Московские Черёмушки – пятиэтажки стояли в ряд в десяти минутах от троллейбуса, поднявшиеся тополя засыпали промежуток между домами рано пожелтевшими листьями, и неизвестно откуда берущиеся в таком количестве старухи вместо отсутствующих завалинок, к которым они привыкли, толковали на скамьях без спинок с двух сторон от асфальтированной дорожки к двери парадного… Они замолкали, когда кто-то проходил мимо, и часто появление чужого было началом нового обсуждения…
Куда ты шёл по этом у белому полю без единого следа? Что сулил тебе ещё один вечер в переполненной пустыне города, который ты не знал, и который не ждал тебя?
Эти двое, к которым вы пришли, состарились до срока. Война сделала своё дело, не пощадила их… у него почти совсем отняла зрение в окопах, а у неё в осаждённом городе двух маленьких внуков в сорок втором, но осталось им то, с чего начиналась их общая тропа. Теперь они медленно двигались, называли друг друга уменьшительными именами и ничему не позволяли огорчать их совместное пребывание на этом свете. В холодильнике обнаружилась картонная пористая сетка с двумя коричневыми яйцами, половина треугольного пакета кефира и пачка маргарина, а в пожелтевшем шкафчике над плитой – полпакета муки и свёрнутый из толстой обёрточной бумаги кулёк с тёмными макаронами, которые легко надевались на мизинец…
– Останешься здесь, – утвердительно сказал Анатолий Маркович и опять жестом остановил грозившее вырваться твоё возражение. – На дежурство, – он вытянул из внутреннего кармана бумажник толстой свиной кожи с тиснением с двух боков, вынул оттуда, послюнявив пальцы, три десятки и, не разжимая зубов, тихо процедил: – Сам знаешь, что тут нужно! Рецепты у вас есть? – громко спросил он от входной двери и выпустил тебя…
Почему эти люди так запали тебе в душу? Потому что Наденька утром подходила к твоей раскладушке и стояла тихо, не шевелясь, пока ты не открывал глаза?
– Каша простынет… – тихо и ласково произносила она чуть слышно, – и Митеньке пора работать! – а старичок сидел уже, готовый нажимать ручку пресса, прикрученного к краю кухонного стола и выплевывашего после каждого нажатия проволочные скобки для брошюровки книг…
Тогда ты быстро умывался, глотал невкусную, липкую, без соли и сахара кашу и сам брался за ручку пресса, отметая все возражения… ты говорил:
– Мы эту норму счас!.. – и с азартной скоростью лязгал ручкой: вверх – вниз, вверх – вниз!
Скобочки грудились на столе горкой, порой сползая с неё на пол от обилия. Тогда ты прекращал работу, становился на колени и сгребал их на полу в кучку торцом ладони, а потом собирал щепотками и ссыпал на стол поближе к Наденьке, которая аккуратно складывала их в коробочки.
– Так мы премию заработаем! – радостно-тихо удивлялась она. – Перевыполним план, и премию дадут!
Ты помнишь это? И до конца их дней потом ты посылал им переводы каждый месяц, пока однажды деньги не вернулись обратно, потому что Наденьки и Митеньки не стало в один день – их убили отморозки в расцвете великой перестройки, чтобы завладеть их двухкомнатной хрущобой на Заневском в городе-герое Ленинграде. Убили после того, как эти доверчивые старички подписали какую-то бумагу, по которой им обещали обихаживать их старость по-царски до конца дней в обмен на дарственную жилплощади новому благодетелю… после кончины.
Ты уже не искал сам своего ангела, своего одуванца, свою воображаемую и существующую где-то рядом на планете любимую. Ты доверил судьбе эту неминуемую встречу, о которой – не заметил как – привычно думал каждую минуту…
Так твоя нетронутая десятка, с которой ты покинул родной город, и лежала в пистончике брюк, но ты решил теперь не тратить её ни за что – она стала твоим талисманом. Ты не хотел превратить её в миллионы, положив, как основу нового дела.
Можно верить в судьбу, можно не полагаться на неё – для жизни это значения не имеет. Она идёт, течёт, катится, несётся бешено по равнине, скачет по ухабам, сваливается в пропасть и возносится на вершины – под неё можно подложить любые предсказания и толкования, можно даже заранее, а потом ловко подогнать и подтвердить ничем не оправданными совпадениями, ибо совпадений никаких и не было! Всё очень просто – ретушью пользовались ещё древние, а при нагнетающихся технологиях такие подмены и фальсификации – задачка для школьника. Многие уже изнасиловали Нострадамуса, потом появился некий Глоба с надутыми щеками, который успешно врёт, манипулируя не только людскими доверчивыми и необразованными душами, но, если его послушать, общается с планетами и чуть ли не передвигает их на орбитах и сдвигает эти орбиты…
Наплевать судьбе на всякую «глобу», как солнцу на лужу на дороге, – оно скользит, не замечая её, к своему естественному ежедневному закату…
И этот орденоносно-иконостасный человек появился на твоей дороге так, что ни пройти, ни обойти его не было никакой возможности. Он вырос в небе и обитал там несколько десятилетий, представляя события на земле только с точки зрения бомбить или охранять. Взлёт или посадка… несколько сотен раз в воздухе за четыре года над смертью и против неё. И тут вдруг неожиданно упал с неба прямо в твою судьбу!
Он был очень похож на Гузевича – такой же квадратный человек, только в форме, китель которой не сгибался и не давал сесть, он был негибок из-за невероятного обилия наград, как кованые рыцарские доспехи. И хотя верхние медали и ордена наползали на нижеприкреплённые, а те в свою очередь на ещё более низко расположенный ряд, уже при втором наложении панцирь не гнулся, гремел, скрипел, сверкал, отражал солнце, лампы, люстры, огоньки сигарет, уличные фонари на столбах, фары машин и даже их стоп-сигналы, а также отдалённые огоньки, мелькавшие за окном электрички.
Время было тревожное, вольное, все закричали о свободе, но мало кто понимал, что это такое. Во всяком случае, подвыпивший оратор в вагоне обязательно хотел познакомить всех со своим пониманием вопроса о свободе, который незаметно национализировался, то есть перешёл на «свои – не свои», и оказалось, что во всём виноваты проклятые сионисты, которые опять спаивают честный русский народ, и тут оратору для примера приглянулся пожилой человек с седой шевелюрой и миндалевидными глазами, наполненными вековечной восточной печалью и неземным мечтанием. Трудно сказать, принадлежал ли он к тому разбредшемуся по свету стаду, которое сионисты хотели собрать теперь, наконец, в одном месте, но для выступавшего это было не столь важно. Он сам подогревал себя своими убедительными доводами, что Россия наконец воспрянет, потому что очистится от такой заразы, как такие вот…
В этот момент высокой речи, полковник, сидевший через две скамейки за спиной оратора, встал, невольно звякнув «иконостасом», аккуратно снял с головы фуражку с голубым околышем, водрузил её на сетку для сумок над окном, пригладил чуть взлохматившиеся полуседые волосы и медленно стал пробираться по проходу к распалившемуся герою. Большинство сидевших в вагоне, до сих пор опустив глаза долу, чтобы не встретиться взглядом с оратором, каким-то образом почувствовали, что сейчас что-то случится, – то ли их привлёк звон «иконостаса», то ли какие-то флюиды (что скорее всего, как потом мне стало ясно) исходили от медленно продвигавшегося полубоком человека, но все теперь открыто смотрели на него. Он подошёл к трибуну, крепко ухватил его за предплечье – и стало видно, как несоразмерен росту его громадный кулак, – вытянул замолчавшего и косо глядевшего на клещи на своем плече говоруна в проход и повёл его, упирающегося и пытающегося что-то сказать, к раздвигающимся дверям в конце вагона. Там он приостановился, резким толчком развернул полубоком к себе свободолюбца и тихо сквозь зубы процедил: «А теперь молись, чтобы скоро была остановка, а то я тебя в свободный полёт выпущу!» – и с этими словами вытолкнул его в тамбур, так и не отпуская зажатое, как тисками, предплечье. Даже сквозь перестук колёс было слышно каждое слово, и каждому понятно было, что они не для угрозы, а для действия.
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5