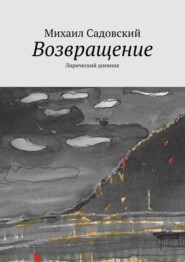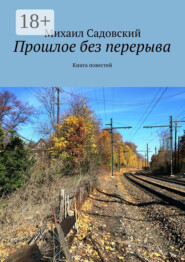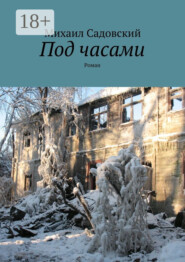По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ощущение времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нареше копф! Я поэтому тебе и сказала! Только ты никому не говори, что я! Никому! Если ты мне друг! Но ты должен сказать своей маме, что знаешь про это.
– Про что, Милка?
– Ты совсем маленький, Додик… совсем… я не знаю, куда и как, но раз отец сказал… может быть, мы уедем вместе…
И я понял в тот момент, что готов ехать куда угодно, но только туда, где будет она… потому что невозможно даже представить, что Милки нет рядом… И за забором, где мы сейчас стоим, будут жить совсем чужие люди. Ни один голос на свете не похож на её голос, и ни одни глаза, такие серые и такие глубокие, и нет ни одного запаха, который можно спутать с её запахом… Ну, почему, почему так устроен мир, что кто-то может взять и решить за другого, куда ему ехать и с кем расставаться… почему?!».
Наташа позвонила и сразу попросила не бросать трубку:
– Нам надо поговорить. Я прошу тебя, Давид! В конце концов, ты не имеешь права мне отказать хоть в этом!
– На каком основании?!
– Да на простом: ты человек, и я – человек!..
– Философски, Наташа, но, по-моему, всё уже сказано… я не люблю выяснять отношения…
– Я прошу, Боже мой, не заставляй меня унижаться…
Он представил, как она стоит у телефона с сигаретой, на одной ноге, почёсывая икру подъёмом второй ноги, голубенький махровый халатик с перехлёстнутыми полами и скрученный-перекрученный поясочек на талии… «А вдруг и правда всё враньё… какая-нибудь сука сболтнула, чтобы насолить ей, нагадить ему… позвонили, написали… это так давно практикуется… может, неправда?! И я снова могу смотреть на неё и удивляться: неужели эти глаза мои и неужели я могу целовать эти губы, когда хочу? За что мне так повезло?». Он сжал зубы, зажмурился и почувствовал, как перехватило дыхание… «Если попячусь – это будет конец. Не тому, что у нас было, – это давно кончилось. Не ей. Не „любви“, чёрт бы побрал это изнасилованное слово! Мне конец! Во всём и навсегда!».
– Тебе неинтересно, что со мной происходит?
Они стояли на просторной площадке между этажами в библиотеке. Минуту назад Наташа шла сверху. Не спеша, чуть поворачивая носок туфли вбок на скользкой гранитной ступеньке. Она всегда чувствовала, что на неё смотрят… ещё девчонкой на деревенском лугу знала это… Додик поднимался вверх и смотрел на неё, не отрываясь. «Красивая. Очень. Красивая… она красивая. Я – идиот!». Он отвернулся к окну: «Там жизнь. И до нас никому никакого дела. У каждого своя драма и часто почище, чем у нас…». Наташа попыталась за рукав развернуть его лицом к себе.
– Додик, я знаю, тебе наговорили чёрт-те что, и ты поверил! Степанов здесь ни при чём!..
– Послушай, Наталья, когда ты станешь совсем знаменитой, – он так и смотрел в сторону, – об этом будут знать все… а пока мне совсем не обязательно выслушивать от тебя, с кем ты теперь спишь…
– Ты стал таким грубым, Додик! На тебя плохо влияет писательская среда… Может быть, хватит дуться… и верить сплетням…
– Я не дуюсь!.. Понимаешь, второй номер бывает в пулемётном расчёте, в звене истребителей… – он покрутил рукой в воздухе. – В теннисе, в волейболе! Во: в футбольной команде…
– Не хами, Додик, тебе это не идёт! Ты не так воспитан…
– Жаль!
– Что? Что жаль? Ты сам виноват!
– Жаль, что мне не идёт… так хочется нахамить тебе… может быть, стукнуть… обозвать и послать… – он смотрел на неё изучающе. – Этого мало?..
– Глупо… я просто люблю тебя… – она закусила губы и побледнела, – каждый человек может ошибиться, понимаешь? Каждый!
– Понимаю! Поэтому и дал тебе возможность ошибаться, сколько угодно, чтобы не сковывать твоей свободы, но не хочу исправлять твои ошибки…
– А тебе можно? – перебила Наталья, и губы её вытянулись в две струнки и побледнели…
– Да. Правда. Я ошибся… и теперь исправил свою ошибку сам… Меня больше нет, понимаешь… я хочу всегда быть первым…
– Поэтому нашёл себе девочку! – перебила Наталья.
– Наташа, мы чужие люди… пойми… это правда, и навсегда… поэтому не суди обо мне… я не знаменитость… и мне для карьеры не нужна скандальная богемная грязная слава…
– Какой же ты пошляк!
– Правда! В наше время говорить то, что думаешь, – пошло и глупо…
– Ты упрекаешь меня в моей провинциальности, не возражай. Я же чувствую. А сам?..
– Ну, при чём же здесь я? – взорвался Додик. – Ты уже доказала мне, что я полное ничтожество, что не ценю твой талант, что ты превозмогла такие обстоятельства, что я должен непрерывно восхищаться… Ну, ты нарочно или нечаянно спутала сцену и жизнь, свалила всё в одно… это на сцене можно легко заменить заболевшего героя-любовника или субретку… какие там ещё амплуа – я не драматург… это там можно развести интригу, переспать ради роли с режиссёром, подставить ножку партнёрше… а мне вовсе неважно, что делается на сцене… я в своей-то жизни никак не разберусь… Я не от восхищения к твоим ногам упал… совсем от другого, а ты даже не наклонилась посмотреть, кто там… просто вытерла об меня ноги и перешагнула… зачем тебе какой-то ни то ни сё, который всё никак в люди не выбьется… ты так стремительно шагаешь… из провинции притащилась в столицу, с первого захода поступила в театральный. С третьего курса начала сниматься, в театр модный попала… ну, сказка про Золушку… ну, спасибо лично генеральному секретарю и советскому правительству за счастливое детство… я здесь при чём? Найдётся тот, кто тебя оценит! А победителей не судят! И цель оправдывает средства!.. Всё. Прости меня. Я никого, никогда не сужу! Не облечён такими божественными полномочиями… всё. Прощальный бал отменяется. Хотя невеста вся в белом!
– Ну, прощай! – в её голосе звучала угроза. – Ты ещё пожалеешь… вот увидишь… – она развернулась, сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью…
– Я уже жалею… – задумчиво пробормотал Додик. – И ничего не исправлю… и не попытаюсь… но урок мне не на пользу… всё равно… я чувствую: это опять повторится…
– Ты не замёрз ждать? – Вера выскочила из парадного в пальто нараспашку с рассыпанными по невысокому вздёрнутому воротничку локонами. У Додика всё сжалось внутри и закричало: «Нет! Нет! Я готов тебя такую ждать всегда! Бесконечно!».
– Искусство требует жертв, – произнёс он безнадёжным голосом. – А такое прекрасное – вдесятеро!
– Прости! Неудобно! Известный писатель – и так мёрзнет на улице.
– А неизвестного и не писателя удобно? Соблюдаешь субординацию? – его всё же задело бесцельное блуждание по улице взад-вперёд! – Это откуда у тебя?
– В семье офицера выросла! – она тоже начинала сердиться.
– Давай сначала погреемся, а потом обсудим! Лучше будет думаться…
– Ну, не сердись… – примиряюще сдалась Верочка и поцеловала его. – Мне даже мой Израилич сказал: «Верочка, сегодня мы совсем заморозим вашего мальчика… ты бы его пригласила, что ли… посидеть с нами… я разрешаю…».
Вообще-то он никого не пускал на уроки. Только свои ученики могли присутствовать, и это даже приветствовалось… «рекомендовалось», как он выражался. У Якова Израилевича была на то своя теория, которую можно было по крупицам составить из его высказываний. Во-первых, он считал неэтичным допускать к себе учеников другого педагога, не уведомив его, потому что ученик не должен разбрасываться. Дело даже не в том, что «чужой» педагог лучше «моего», а в том, что подопечный не видит всего пути, намеченного мастером, и судит по частностям. Посещение другого педагога и следование его советам сбивает намеченную линию. Музыканты – народ увлекающийся, начинают пробовать и так и этак, а в результате остаются без прочной классической школы, а натасканные обрывками чужих методик… Во-вторых, Яков Израилевич считал, что, когда его студенты следят за тем, как играет товарищ, подмечают его ошибки, а следом и то, как он их исправляет, – очень важно… В-третьих, чем больше человек находится в мире музыки, тем лучше для него, а для музыканта – просто нет другой атмосферы в жизни, в этом он был уверен… Было ещё и в-четвёртых, и в-пятых, но об этом можно было услышать крайне редко и не каждому… Он рассказывал, что, когда сидел, и у него, естественно, не было инструмента, каждый день играл «в уме»… и мозг подавал пальцам сигналы, равные тем, которые возникают во время «настоящей» игры с касанием клавиш… так что уметь «играть без рояля» так же важно… и «при чужих всего не скажешь, не так понять могут»…
Чего не знали его нынешние ученики – что на самом деле так и было. Настучал на него студент другого профессора, его коллеги. Мальчишка, очевидно, пытавшийся восполнить недостачу таланта таким способом… И три года… три года…
Он вернулся сразу после смерти вождя, полностью оправданный… и возмущённый. Возмущённый не ложным наветом, но «оправданием». В чём? Значит, была какая-то его вина? Не вина подлеца, которого он знал как благополучного теперь чиновника, так и продолжавшего делать карьеру около музыки…
Додик сидел в углу на стуле, отвернувшись от Веры, чтобы не смущать её…
– Девочка! – профессор положил раскрытую ладонь на крышку рояля и в упор смотрел на Веру, чуть наклонившись к ней. – Трудность Шопена в его кажущейся лёгкости, да? В простоте и логичности письма… Сыграно согласно нотам всё замечательно, но так ли чувствовал Шопен? Вот в чём дело!.. Да? Чтобы передать его страдания, есть два пути: пройти то, что прошёл он. Отметаем сразу. Невозможно пройти чужой путь, да и свой дважды, невозможно страдать за всех великих… у них и страдания были великими! Но возможно понять их из их же текста и вообразить! Вот именно то, чем надо заниматься! Да? Воображение – предмет увлекательный и первостепенный! Понимаешь, девочка?!. Его лёгкость от великой глубины! Там, в глубине, ты паришь, потому что напитана ею и приобрела такой же вес… ах, как это передать… вот послушай! Шопен выше всех слов, послушай… – и руки его легли на клавиатуру.
Началась Музыка. Он в этот момент отдавал всё, что накопилось. Он хотел, мечтал, стремился, чтобы эта талантливая девочка, в которую верил, сделала наконец ещё один маленький шажочек, который будет уже там, в пространстве Шопена… этот крошечный шажок, который отделяет ученика от творца… Неожиданно для себя Додик почувствовал, что щёки его совершенно мокрые и солёные капельки скатываются по ним в уголки губ… он расплывающимся сквозь слёзы взглядом увидел бледную, стоящую в торце клавиатуры Веру, её полураскрытый рот и часто-часто бьющуюся на шее жилку, и… закрыл глаза, чтобы не разрыдаться…
Рояль замолчал. И все молчали…
– Он, наверное, умер, потому что всё сказал… что ему велел Б-г… а страдать больше не было сил… – тихо произнёс профессор, поднял взгляд с клавиатуры и перевёл его на Веру. – Надо рисовать не осень, которую видишь, а то, что ты чувствуешь, когда видишь эту осень… понимаешь, да? Только это интересно… копия – это рабство… а прекрасна лишь свобода… – все молчали. – Есть одно стихотворение… Вашего коллеги, – вдруг обратился он к Додику и снова замолчал. – Из того, что не печатают, – и опять пауза. – Пока… пока… не печатают, – он вздохнул. – Но как раз об этом…
Оконная рама, как рама картины, —
Природа палитры своей не таит —
Видны и тончайшая нить паутины,
И солнце, прожёгшее медью зенит.
– Про что, Милка?
– Ты совсем маленький, Додик… совсем… я не знаю, куда и как, но раз отец сказал… может быть, мы уедем вместе…
И я понял в тот момент, что готов ехать куда угодно, но только туда, где будет она… потому что невозможно даже представить, что Милки нет рядом… И за забором, где мы сейчас стоим, будут жить совсем чужие люди. Ни один голос на свете не похож на её голос, и ни одни глаза, такие серые и такие глубокие, и нет ни одного запаха, который можно спутать с её запахом… Ну, почему, почему так устроен мир, что кто-то может взять и решить за другого, куда ему ехать и с кем расставаться… почему?!».
Наташа позвонила и сразу попросила не бросать трубку:
– Нам надо поговорить. Я прошу тебя, Давид! В конце концов, ты не имеешь права мне отказать хоть в этом!
– На каком основании?!
– Да на простом: ты человек, и я – человек!..
– Философски, Наташа, но, по-моему, всё уже сказано… я не люблю выяснять отношения…
– Я прошу, Боже мой, не заставляй меня унижаться…
Он представил, как она стоит у телефона с сигаретой, на одной ноге, почёсывая икру подъёмом второй ноги, голубенький махровый халатик с перехлёстнутыми полами и скрученный-перекрученный поясочек на талии… «А вдруг и правда всё враньё… какая-нибудь сука сболтнула, чтобы насолить ей, нагадить ему… позвонили, написали… это так давно практикуется… может, неправда?! И я снова могу смотреть на неё и удивляться: неужели эти глаза мои и неужели я могу целовать эти губы, когда хочу? За что мне так повезло?». Он сжал зубы, зажмурился и почувствовал, как перехватило дыхание… «Если попячусь – это будет конец. Не тому, что у нас было, – это давно кончилось. Не ей. Не „любви“, чёрт бы побрал это изнасилованное слово! Мне конец! Во всём и навсегда!».
– Тебе неинтересно, что со мной происходит?
Они стояли на просторной площадке между этажами в библиотеке. Минуту назад Наташа шла сверху. Не спеша, чуть поворачивая носок туфли вбок на скользкой гранитной ступеньке. Она всегда чувствовала, что на неё смотрят… ещё девчонкой на деревенском лугу знала это… Додик поднимался вверх и смотрел на неё, не отрываясь. «Красивая. Очень. Красивая… она красивая. Я – идиот!». Он отвернулся к окну: «Там жизнь. И до нас никому никакого дела. У каждого своя драма и часто почище, чем у нас…». Наташа попыталась за рукав развернуть его лицом к себе.
– Додик, я знаю, тебе наговорили чёрт-те что, и ты поверил! Степанов здесь ни при чём!..
– Послушай, Наталья, когда ты станешь совсем знаменитой, – он так и смотрел в сторону, – об этом будут знать все… а пока мне совсем не обязательно выслушивать от тебя, с кем ты теперь спишь…
– Ты стал таким грубым, Додик! На тебя плохо влияет писательская среда… Может быть, хватит дуться… и верить сплетням…
– Я не дуюсь!.. Понимаешь, второй номер бывает в пулемётном расчёте, в звене истребителей… – он покрутил рукой в воздухе. – В теннисе, в волейболе! Во: в футбольной команде…
– Не хами, Додик, тебе это не идёт! Ты не так воспитан…
– Жаль!
– Что? Что жаль? Ты сам виноват!
– Жаль, что мне не идёт… так хочется нахамить тебе… может быть, стукнуть… обозвать и послать… – он смотрел на неё изучающе. – Этого мало?..
– Глупо… я просто люблю тебя… – она закусила губы и побледнела, – каждый человек может ошибиться, понимаешь? Каждый!
– Понимаю! Поэтому и дал тебе возможность ошибаться, сколько угодно, чтобы не сковывать твоей свободы, но не хочу исправлять твои ошибки…
– А тебе можно? – перебила Наталья, и губы её вытянулись в две струнки и побледнели…
– Да. Правда. Я ошибся… и теперь исправил свою ошибку сам… Меня больше нет, понимаешь… я хочу всегда быть первым…
– Поэтому нашёл себе девочку! – перебила Наталья.
– Наташа, мы чужие люди… пойми… это правда, и навсегда… поэтому не суди обо мне… я не знаменитость… и мне для карьеры не нужна скандальная богемная грязная слава…
– Какой же ты пошляк!
– Правда! В наше время говорить то, что думаешь, – пошло и глупо…
– Ты упрекаешь меня в моей провинциальности, не возражай. Я же чувствую. А сам?..
– Ну, при чём же здесь я? – взорвался Додик. – Ты уже доказала мне, что я полное ничтожество, что не ценю твой талант, что ты превозмогла такие обстоятельства, что я должен непрерывно восхищаться… Ну, ты нарочно или нечаянно спутала сцену и жизнь, свалила всё в одно… это на сцене можно легко заменить заболевшего героя-любовника или субретку… какие там ещё амплуа – я не драматург… это там можно развести интригу, переспать ради роли с режиссёром, подставить ножку партнёрше… а мне вовсе неважно, что делается на сцене… я в своей-то жизни никак не разберусь… Я не от восхищения к твоим ногам упал… совсем от другого, а ты даже не наклонилась посмотреть, кто там… просто вытерла об меня ноги и перешагнула… зачем тебе какой-то ни то ни сё, который всё никак в люди не выбьется… ты так стремительно шагаешь… из провинции притащилась в столицу, с первого захода поступила в театральный. С третьего курса начала сниматься, в театр модный попала… ну, сказка про Золушку… ну, спасибо лично генеральному секретарю и советскому правительству за счастливое детство… я здесь при чём? Найдётся тот, кто тебя оценит! А победителей не судят! И цель оправдывает средства!.. Всё. Прости меня. Я никого, никогда не сужу! Не облечён такими божественными полномочиями… всё. Прощальный бал отменяется. Хотя невеста вся в белом!
– Ну, прощай! – в её голосе звучала угроза. – Ты ещё пожалеешь… вот увидишь… – она развернулась, сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью…
– Я уже жалею… – задумчиво пробормотал Додик. – И ничего не исправлю… и не попытаюсь… но урок мне не на пользу… всё равно… я чувствую: это опять повторится…
– Ты не замёрз ждать? – Вера выскочила из парадного в пальто нараспашку с рассыпанными по невысокому вздёрнутому воротничку локонами. У Додика всё сжалось внутри и закричало: «Нет! Нет! Я готов тебя такую ждать всегда! Бесконечно!».
– Искусство требует жертв, – произнёс он безнадёжным голосом. – А такое прекрасное – вдесятеро!
– Прости! Неудобно! Известный писатель – и так мёрзнет на улице.
– А неизвестного и не писателя удобно? Соблюдаешь субординацию? – его всё же задело бесцельное блуждание по улице взад-вперёд! – Это откуда у тебя?
– В семье офицера выросла! – она тоже начинала сердиться.
– Давай сначала погреемся, а потом обсудим! Лучше будет думаться…
– Ну, не сердись… – примиряюще сдалась Верочка и поцеловала его. – Мне даже мой Израилич сказал: «Верочка, сегодня мы совсем заморозим вашего мальчика… ты бы его пригласила, что ли… посидеть с нами… я разрешаю…».
Вообще-то он никого не пускал на уроки. Только свои ученики могли присутствовать, и это даже приветствовалось… «рекомендовалось», как он выражался. У Якова Израилевича была на то своя теория, которую можно было по крупицам составить из его высказываний. Во-первых, он считал неэтичным допускать к себе учеников другого педагога, не уведомив его, потому что ученик не должен разбрасываться. Дело даже не в том, что «чужой» педагог лучше «моего», а в том, что подопечный не видит всего пути, намеченного мастером, и судит по частностям. Посещение другого педагога и следование его советам сбивает намеченную линию. Музыканты – народ увлекающийся, начинают пробовать и так и этак, а в результате остаются без прочной классической школы, а натасканные обрывками чужих методик… Во-вторых, Яков Израилевич считал, что, когда его студенты следят за тем, как играет товарищ, подмечают его ошибки, а следом и то, как он их исправляет, – очень важно… В-третьих, чем больше человек находится в мире музыки, тем лучше для него, а для музыканта – просто нет другой атмосферы в жизни, в этом он был уверен… Было ещё и в-четвёртых, и в-пятых, но об этом можно было услышать крайне редко и не каждому… Он рассказывал, что, когда сидел, и у него, естественно, не было инструмента, каждый день играл «в уме»… и мозг подавал пальцам сигналы, равные тем, которые возникают во время «настоящей» игры с касанием клавиш… так что уметь «играть без рояля» так же важно… и «при чужих всего не скажешь, не так понять могут»…
Чего не знали его нынешние ученики – что на самом деле так и было. Настучал на него студент другого профессора, его коллеги. Мальчишка, очевидно, пытавшийся восполнить недостачу таланта таким способом… И три года… три года…
Он вернулся сразу после смерти вождя, полностью оправданный… и возмущённый. Возмущённый не ложным наветом, но «оправданием». В чём? Значит, была какая-то его вина? Не вина подлеца, которого он знал как благополучного теперь чиновника, так и продолжавшего делать карьеру около музыки…
Додик сидел в углу на стуле, отвернувшись от Веры, чтобы не смущать её…
– Девочка! – профессор положил раскрытую ладонь на крышку рояля и в упор смотрел на Веру, чуть наклонившись к ней. – Трудность Шопена в его кажущейся лёгкости, да? В простоте и логичности письма… Сыграно согласно нотам всё замечательно, но так ли чувствовал Шопен? Вот в чём дело!.. Да? Чтобы передать его страдания, есть два пути: пройти то, что прошёл он. Отметаем сразу. Невозможно пройти чужой путь, да и свой дважды, невозможно страдать за всех великих… у них и страдания были великими! Но возможно понять их из их же текста и вообразить! Вот именно то, чем надо заниматься! Да? Воображение – предмет увлекательный и первостепенный! Понимаешь, девочка?!. Его лёгкость от великой глубины! Там, в глубине, ты паришь, потому что напитана ею и приобрела такой же вес… ах, как это передать… вот послушай! Шопен выше всех слов, послушай… – и руки его легли на клавиатуру.
Началась Музыка. Он в этот момент отдавал всё, что накопилось. Он хотел, мечтал, стремился, чтобы эта талантливая девочка, в которую верил, сделала наконец ещё один маленький шажочек, который будет уже там, в пространстве Шопена… этот крошечный шажок, который отделяет ученика от творца… Неожиданно для себя Додик почувствовал, что щёки его совершенно мокрые и солёные капельки скатываются по ним в уголки губ… он расплывающимся сквозь слёзы взглядом увидел бледную, стоящую в торце клавиатуры Веру, её полураскрытый рот и часто-часто бьющуюся на шее жилку, и… закрыл глаза, чтобы не разрыдаться…
Рояль замолчал. И все молчали…
– Он, наверное, умер, потому что всё сказал… что ему велел Б-г… а страдать больше не было сил… – тихо произнёс профессор, поднял взгляд с клавиатуры и перевёл его на Веру. – Надо рисовать не осень, которую видишь, а то, что ты чувствуешь, когда видишь эту осень… понимаешь, да? Только это интересно… копия – это рабство… а прекрасна лишь свобода… – все молчали. – Есть одно стихотворение… Вашего коллеги, – вдруг обратился он к Додику и снова замолчал. – Из того, что не печатают, – и опять пауза. – Пока… пока… не печатают, – он вздохнул. – Но как раз об этом…
Оконная рама, как рама картины, —
Природа палитры своей не таит —
Видны и тончайшая нить паутины,
И солнце, прожёгшее медью зенит.
Другие электронные книги автора Михаил Садовский
Другие аудиокниги автора Михаил Садовский
Бяша




 4.5
4.5