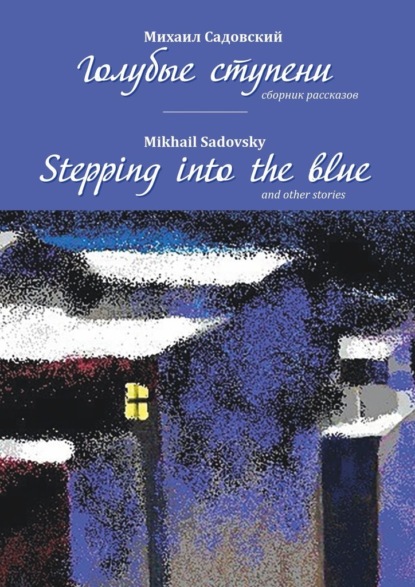По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голубые ступени / Stepping into the blue
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Вся усталость и боль стекают вниз, вниз по этим пальцам», – мысленно повторял он, как учили мудрецы ушу. И в полудрёме усталости ему представлялось, что он насос, и рука, лежащая на этом тельце, втягивает всю болезнь в себя, а потом жар и боль стекают на пол по другой, опущенной руке, перемешиваются с лунным светом, растворяются в нём и исчезают.
Пространство становилось бесконечным, глаза закрывались, и ему казалось, что это уже он сам много, необозримо много лет назад лежит с раздутой от свинки перевязанной щекой на старом топчане в угловой комнатке у добрых знакомых в доме, один – с самого дорассветного утра и до позднего вечера. Непереносимо хочется есть, но он знает, что кроме двух кусков чёрного клёклого хлеба ничего нет в тумбочке на кухне и что, если взять в рот кусочек и попробовать жевать, побежит обильная слюна и так заломит в скуле под больным ухом, что нужно будет обязательно выдохнуть какой-нибудь звук, чтобы с ним вместе утекло немножко боли, а потом придётся судорожно глотать воздух, чтобы не задохнуться от его нехватки. И от этого движения в горле станет опять невыносимо больно – так, будто голова треснула и в эту щель всаживается боль, похожая на проволочную сетку, которой моют почерневшие на керосинке кастрюли.
Поэтому он лежит тихо и постанывает изредка от жалости к самому себе и оттого, что время болезни неудачно, потому что на дворе весна, и скоро день рождения, и ручьи такие замечательные бегут, и солнце такое тёплое и безотказное – греет и греет, сколько ни подставляй ему лицо и шею. Тогда все они, мальчишки, садятся в ряд на пустыре на гнилое влажное бревно, подстелив обрывки старых дерматиновых сумок и уже высохших газет.
Он не ждёт. Дремлет в бесконечном дне, отрывается на момент от липкой дрёмы и снова тонет в ней, не поворачиваясь и не шевеля даже пальцами, потому что всё вызывает острую боль. И ещё терпит, терпит до последнего момента, пока, кажется, сейчас лопнет живот, и тут уж, невзирая на колотьё и кружение головы, держась за стенку, босиком по холодному полу стремится в туалет и долго, долго стоит над ржавым унитазом, в котором струится вечный ручеёк. Потом, продрогнув, летит, лёгкий и почему-то радостный, в свою остывшую постель, поджимает ноги, сворачивается калачиком и замирает: наступает расплата. Тиски боли безжалостны, и ему, чтобы одолеть их, надо, главное, не шевелиться, а это так трудно, когда болит… Он закрывает глаза, и снова благостная дрёма забирает его голодное обессиленное тельце.
Но он всё слышит и незаметно начинает ждать, потому что смеркается, где-то далеко хлопают двери, звонки ждут ответа, чья-то речь тревожит нетронутое безмолвие целого длинного дня.
Это самое радостное время, когда возвращается мама, когда не страшна никакая боль, когда совершенная правда, что скоро выздоровеешь, чему не верилось и сегодня утром, потому что боль никак не проходит пятый день… или шестой? Просто он сбился со счёта… А она придёт, подоткнёт одеяло, положит шершавую холодную ладонь на лоб, и они оба замрут на минуту, такую долгожданную и сладкую. За эту короткую минуту боль неожиданно сморщивается, и уже можно проглотить тарелку ненавистной, несмотря на жизнь впроголодь, манной каши из неизвестно где добытой крупы, без молока и масла. Но он тогда не знал или забыл, что их положено добавлять в эту кашу, и тогда она становится ужасно вкусной, не комковатой и не заклеивающей горло.
А потом уже, совсем перед тем, как ночь опять разъединит их, мама садится рядом и кладёт руку на его спину, и он сквозь одеяло чувствует тепло этой руки и слышит, уже против воли уплывая в мир сна: «Спи, Малыш, спи…».
Ему хочется ещё раз услышать это. Ещё. Ещё разок… Но сладкий мартовский воздух, льющийся через форточку, совсем опьяняет и смаривает его. Сон… Сон, глубокий и бесконечный. И по этому воздуху, прописанному врачом как единственное лечение, потому что усиленного питания взять негде, он уплывает в своё ещё более раннее детство – грохот бомбёжки, усталые теплушки, горящие от немецких фугасок-зажигалок, колёсный пароход, кренящийся набок от сгрудившихся эвакуированных, стремящихся к берегу, в тишину полумёртвой, переполненной беженцами деревни, под ночную необычайного размера и красоты заволжскую луну, от которой ни спасу, ни предела.
И так круг замыкается. Он медленно и нехотя выплывает в свой нынешний мир из полудрёмы – мир, который никому не доступен и не дорог так, как ему. И только одного человечка хочет он впустить туда и жить там с ним вместе, не потому, что в мире этом уютно, сытно и безопасно, а потому, что он знает, как провести по нему своего дорогого Малыша, чтобы наполнить его добротой и неопределяемым чувством – умением ощущать близких, где бы они ни находились и о чём бы ни думали.
«Спи, Малыш, спи. Жар утекает из тебя через меня, и лунный свет не будет жёстко очерчивать тебя и не будет вытягивать из привычного мира». Этот свет умеет быть ласковым и добрым, как горячее молоко с маслом, убивающее свинку. Он не знал, что его можно не любить, это молоко, потому что давно не видел масла, а маргарин и лярд совсем не похожи на масло. Он никогда не пил такого, а сегодня соседка принесла пол-литра в банке и кубик масла. И банка, покрытая вощёной бумажкой, с этим кубиком на ней, завёрнутым в такую же бумажку, стояла между рамами окна – в самом холодном месте – и ждала вечера, когда мама подогреет в кастрюльке с ручкой, нальёт в чашку душистое молоко и осторожно опустит в него четверть кубика, а потом ещё твёрдого, как жмых, мёда, неизвестно где добытого.
И это всё надо выпить, торопясь от голода, обжигая губы и стараясь не торопиться, чтобы растянуть удовольствие. Но вдруг остановиться в ужасе от того, что натворил, и спросить совершенно упавшим от стыда голосом: «А ты?». И не соглашаться, не соглашаться – ни глотка! Ни глотка больше! «А ты?» Вот совсем темно, и теперь, после внезапного пробуждения, выпитого молока, благословенного тепла и прилива жизни, дарованного этой чашкой, сон совсем неодолим. Ты снова подтыкаешь под спину одеяло, и накидываешь сверху своё старое, пригодное только для огородного пугала пальто, и невыразимо сладко, врачующе шепчешь: «Спи, Малыш! Спи!».
Там, только там, у себя внутри, он может погрузить его во всё это, чтобы он вырос навсегда почувствовавшим этот вкус простых слов, выпив его вместе с молоком, – похудел, вытянулся, встал после изматывающей болезни немножко другим. Немножко. Без всяких пролетающих мимо воспитывающих запретов и разрешений, вырос политый этим лунным светом, растворяющим боль и радость, без которых в их собственной междоусобной борьбе и поочерёдных победах ничего не бывает настоящего – такого, как «спи, Малыш!».
«Спи, Малыш! Спи! Во сне всё проходит. Луна не втянет тебя в свои безумные игры… Когда твоя мама была как ты, я бегал по городу и добывал ампулы, чтобы спасти её!..»
И он снова свалился в ту дрёму, которая их объединяла сегодня. Необозначенные дороги прихотливой памяти приводили его на забросанную снежной грязной кашицей улицу среди старых домов, повидавших жизнь ещё до разгула люмпенов и затаившихся после, а потом неожиданно состарившихся, когда рухнули все надежды. По этой улице – в аптеку, где в подвалах ещё хранились вычурные пузырьки от микстур и оподельдоков прошлого века, там через боковую дверь без вывески – с зажатыми в кулаке в кармане одолженными пятнадцатью рублями в контору управляющего, по тёмной скрипучей деревянной лестнице – на второй этаж, сквозь неистребимые запахи борьбы, которые распространяют все пузырьки, коробки и таблетки в аптеках в любом конце света. Тот напряжённый вопрос и надежда, засевшие в одном необходимом сейчас имени и отчестве, и отпускающая радость, что он на месте – спаситель. Будто уже отступила болезнь… Нет. Вот они, три выданные грамма надежды, запаянные в островерхое стекло и уложенные в коробочку с импортным названием, тоже подтверждающим силу средства и оправданность усилий. Домой, скорей домой!
Он летел, не ощущая промокшие ноги, вспотевшую спину и прилипший к шее шарфик в ту ночь, которая была наполнена одним стремлением и просьбой: «Спи, Малыш, спи!». И под рукой ощущалось, как отвергало после укола лихорадку щуплое тельце, плотнее ложилось на залитую лунным светом кровать, словно отдавало ей последние остатки болезни, которой бесполезно было рваться в другую атаку, потому что прозвучало уже рубежное слово «кризис».
Тогда ночь умещалась в такой маленькой и тесной комнатке, что невозможно, некуда было спрятаться от всего, что она предлагает и навязывает: все страхи, насморки духоты, шорохи мышиных вылазок и тревожный звон тишины, топот сердца, перемешанный с гулкими басами радиолы из соседнего подъезда, – всё это не смогло заслонить легко обозначенного звука ровного младенческого дыхания. И та же усталая рука, уже не сопротивляясь, а затекши на весь остаток ночи, как проводник, передавала тебе однажды сказанные слова: «Спи, Малыш. Спи!».
Он смотрел на него, ещё не совсем вернувшись из дрёмы, как бы остановясь передохнуть на полпути, смотрел раскрытыми глазами и боялся шевельнуть даже пальцами – удивительно и неразделимо слились все они, самые близкие, в один образ, втиснулись в одну неразрываемую оболочку, нисколько не постаревшую и не изменившуюся за столько десятилетий, сквозь войны, узурпацию власти, геноцид, обман, отрицание веры и океан лжи, вечной, необъятной и неистребимой…
Тут, в лунном сумеречном свете, ему показалось, что он увидел мелькнувший профиль маминого лица, прильнувшего к ним троим и вдруг растворившегося в них, будто втиснутого сквозь их живую общую кожу. Он вздрогнул и уставился на сползшее далеко влево светящееся пятно, почувствовал, как горяча и потна его ладонь на тёплом, мерно вздымающемся и опадающем с каждым выдохом тельце. Сквозь стекло было видно, что ночь растеряла звёзды и медленно отступала перед рассветом.
Заскрипела кроватка, одеяло сползло одним углом на потемневший безлунный пол… Тогда он встал и, не боясь заскрипеть шагами, направился к двери, обернулся в её проёме и негромко сказал: «Спи, Малыш! Спи…» – потому что был уверен: и на этот раз он победил.
Sleep, my Little One
[Spi, malysh]
«Sleep, my Little One, sleep…» The everlasting moon silently casts the rectangular shape of the window onto the floor – part of it can be seen bending with the blanket which hangs down from the little bed. He has been sitting in the adjacent chair for goodness knows how many hours, leaning forward and laying his hand on the feverish little body just between the shoulder-blades. His other hand hangs down at his side, palm loosely open and fingers half-curled.
«Let all that weariness and pain flow down, down through these fingers,» he keeps repeating to himself, as the Wushu masters[15 - Wushu – a category of Chinese martial arts (popular in Russia) with emphasis on athletic and aesthetic performance, in contrast to the more combat-oriented kung fu.] once taught him. And in his half-conscious drowsiness he imagines himself to be a pump, and that his hand lying on the little one’s body is draining away all the disease into itself, and then the fever and pain are flowing down through his other, drooping hand right down to the floor, where, mingling with the moonlight, they dissolve and disappear.
The space around him seems to expand to infinity, his eyes close, and now he sees himself, more years ago than he can count, lying on an old hospital-type bed, his bandaged cheeks puffed out with mumps, in the little corner room of a neighbor’s apartment, all alone from before sunrise until late into the night. His feeling of hunger then was unbearable, but he knew that, apart from two little pieces of sodden black bread there was nothing to eat in the kitchen, and that any attempt to put one of those pieces into his mouth and chew would only be followed at once by a steady stream of saliva, which would gnaw at his cheek-bone right below his aching ear, making him exhale noisily just to ease his pain a bit, and then he would have to go into convulsions and take in gulps of air so as not to choke from asphixiation. And this movement in his throat would again become unbearably painful, as though his head were cracking open and the pain were settling into the crack, just as prickly as the wire brush his mother used to wash her kerosine-blackened pots.
So he would lie still and allow himself from time to time to let out a wee little groan of self-pity. He had picked a fine time to get sick – outside the window spring had already arrived, and soon it would be his birthday, and the streamlets would be running their charming little courses, and the sun would be shining with its unrelenting warmth, and keep on shining and warming no matter how long you exposed your face and neck to its rays. Then all the little kids would go and sit in a row on the old damp log at the sand-lot, planting themselves on scraps of old leatherette handbags and dried-up newspapers.
There was no anticipation for him. He dozed on through one unending day, momentarily waking from his dank drowsiness only to immerse himself in it once again, not daring to turn over or even move his fingers – actions which would only provoke acute pain. And he would put up with it – he would put up with it until the very last moment when it seemed his stomach would burst, and never mind the throbbing and spinning in his head, he would make his way across the cold floor, hanging on to the walls, to the bathroom, and stand for what seemed forever over the rusty toilet bowl with its steady trickle of water. Then, feeling a sudden chill, he would go lightly tripping with an inexplicable delight back to his now-cold bed, tuck in his feet, curl up and practically faint – now he had to pay the penalty. Pricks of pain came one after another with relentless cruelty, and his only defense was to lie completely still, and that was so hard when everything hurt. He would close his eyes, and again his hungry, exhausted little body would be swallowed up in a soft and pleasing drowsiness.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: