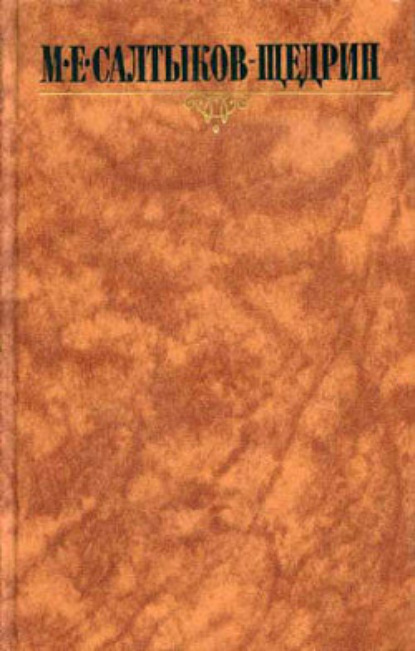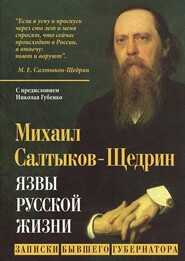По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Благонамеренные речи
Жанр
Серия
Год написания книги
1876
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь это искусство «показывания» уже не меня обездоливало, а, напротив того, мне предлагало свои услуги.
Ясно, что передо мной, в течение целого месяца, каждодневно производился тот самый акт «потрясения», который поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было оно, это было «потрясение», и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклейменных преданием "страшных слов", – эти люди, говорю я, по-видимому, даже и не подозревают, что рядом с ними, чуть ли не ими самими, каждый час, каждую минуту, производится самое действительное из всех потрясений, какое только может придумать человеческая злонамеренность!
И с какою наивною бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт "потрясения общественных основ". Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяныч, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тот является чуть не грабителем или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами «показывания», представленными Зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой, в надежде, что Бородавкин, под влиянием «пунштов», ходчее пойдет в устроиваемую ему Зайцем ловушку?
И чем дольше я думал, тем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом. И по мере того как она исчезала, на ее место, сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее, всплывала другая решимость: бросить! Бросить все и бежать!
Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: возьми всё – и отстань!..
Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с Зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу.
Я ждал довольно долго. Наконец, часа через три, осторожно, словно крадучись, вошел в мою комнату Заяц. Лицо его, в буквальном смысле слова, было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность.
– Желают вас видеть, – доложил он шепотом.
Я чувствовал, что решительный час настал; но все еще колебался.
– Ваше высокоблагородие! позвольте вам доложить! – продолжал он таинственно, – они теперича в таком пункте состоят, что всего у них, значит, просить можно. Коли-ежели, к примеру, всю дачу продать пожелаете – они всю дачу купят; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и дом – они и на это согласны! Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное!
И надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен!!
ПРЕВРАЩЕНИЕ
На днях иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазам не верю: по лестнице магазина сходит сам Осип Иванович Дерунов!
Нужно было в свое время очень запечатлеть в памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его в том обличии, в каком он предстал передо мной в эту минуту. На плечах накинута соболья шуба редчайшей воды (в "своем месте" он носит желтую лисью шубу, а в дорогу так и волчьей не брезгает), на голове надет самого новейшего фасона цилиндр, из-под которого высыпались наружу серебряные кудри; борода расчесана, мягка, как пух, и разит духами; румянец на щеках даже приятнее прежнего; глаза блестят… Словом сказать, лет двадцать пять с плеч долой – никак не меньше.
И прежде случалось, что Дерунов по временам наезжал в Петербург по своим делам, но приезды эти всегда совершались более чем скромно. Останавливался он обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатиевского, сына к – ского пономаря, который служил в одном из департаментов столоначальником, досиделся до чина статского советника и с получением его воспользовался титулом управляющего столом. Если же у кума было нельзя приютиться (Зачатиевский был необыкновенно плодущ, и не всегда в его квартире имелся свободный угол), в таком случае Дерунов нанимал дешевенький нумер в гостинице «Рига» или у Ротина, и там все его издержки, сверх платы за нумер, ограничивались требованием самовара, потому что чай и сахар у него были свои, а вместо обеда он насыщался холодными закусками с сайкой, покупаемыми у лоточников. Франтить он не только не франтил, но даже, ступая на петербургскую почву, как бы с расчетом усугублял невзрачность своего костюма. Иногда, во время этих наездов, он удостоивал посещать и меня.
– Охота вам, Осип Иваныч, себя изнурять! – бывало, скажешь ему, – человек вы состоятельный, а другие говорят и богатый, могли бы в Петербурге шику задать, а вы вот в сибирке ходите да белужиной, вместо обеда, пробавляетесь!
– А ты слушай-ко, друг, что я тебе скажу! – благосклонно объяснял он мне в ответ, – ты говоришь, я человек состоятельный, а знаешь ли ты, как я капитал-то свой приобрел! все постепенно, друг, все пятачками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мне бы в карете ездить надо, а за нее поди пять рублей в день отдать мало! А теперь я от Ивана Иваныча (Зачатиевского, из Измайловского полка) выйду – платье-то у меня таковское: и забрызгает – терпит! Вот я иду-иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничек, а потом, у Вознесенья, и пятиалтынничек. Времени передо мной достаточно, на пожар спешить нечего. Не возьмет извозчик пятиалтынничка – я и до адмиралтейства, заместо прогулки, дойду, а оттоль уж за гривенничек и сяду до биржи. Ан сочти-ка ты, сколько гривенников-то за день в кармане останется – ведь шутя-шутя полтора-два рубля в сутки набежит!
– А вам очень эти полтора-два рубля дороги?
– Мне все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я ведь всякою операцией орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякий, значит, товар. Во всё пальцем колупнуть должен, а иное и на язык испробовать. Кабы теперича я в хорошем платье да в перчатках ходил, как бы к товару-то я приступился? Ведь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно поди денег стоит. Вот и стал бы я, вместо того, чтобы сам до всего доходить, прикащика за себя посылать, а прикащику-то плати, да он же тебя за твои деньги продаст! А теперь – святое дело! Нужды нет, что по пятачкам да по гривенничкам сбираем: курочка и по зернышку клюет, да сыта бывает!
– Ну, вы-то чай, не всё по зернышку клюете? Как сало-то на язык попробуете – в кармане, смотри, и изрядный куш очутится!
– Бывают и куши – и от кушей не отказываемся. Да ведь и тут опять: отчего эти самые куши до нас доходят? Всё через нашу же экономию да осмотрительность! Лучше скажу тебе: даже немец здешний такое мнение об нас, русских, имеет, что в худом-то платье человеку больше верят, нежели который человек к нему в карете да на рысаках к крыльцу подъедет. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопок нужен; как приду я к немцу в своем природном, русском виде, мне и поклониться ему не стыдно! Да и он тоже, глядя на мою одёжу, соображает: "Этот человек, говорит, основательный!" Глядишь – ан мне и уступочка за мою основательность. Нет, сударь, видно, нам, русским, еще предел не вышел в хорошем-то платье ходить!
И вот этот самый человек, возведший хождение в худом платье чуть не в теорию, является передо мной совершенным франтом. Из-за распахнувшейся на мгновение шубы я заметил отлично сшитый сюртук и ослепительной белизны рубашку с крупными брильянтовыми запонками; на руках перчатки a double couture,[24 - двойной строчки (франц.)] на шее – узенький черный col…[25 - галстук (франц.)] Только сапоги навыпуск обличают русского человека, да и то, быть может, он сохранил их потому, что видел такие же у какого-нибудь знакомого кирасира.
– Осип Иваныч – вы? – спросил я нерешительно.
– Самолично-с.
Он высунул из-под шубы два пальца, один из которых я слегка и потянул к себе, сказав:
– Вот вы и в перчатках! а помните, недавно еще вы говорили, что вам непременно голый палец нужен, чтоб сало ловчее было колупать и на язык пробовать?
– Было… и это! – ответил он, несколько сконфузясь, – а что только два пальца вам подал, так этому есть причина: шубу поддерживаю.
– Нет, в самом деле! Не шутя, ведь узнать вас нельзя, Осип Иваныч! Похорошели! помолодели! Просто двадцать пять лет с костей долой! Надолго ли в Петербург?
– Думаю недельки две еще побыть.
– А помнится, вы не очень-то Петербург долюбливали? По делам?
– По делам… ну, и проветриться тоже… Сидишь-сидишь, этта, в захолустье – захочется и на свет божий взглянуть!
– И прекрасно. Теперь, стало быть, вам остается только «штучку» какую-нибудь подцепить – и дело в шляпе! А может быть, вы уж и подцепили?
– Есть их, "штучек"-то… довольно здесь! Я, впрочем, не столько для них, сколько для того, что уж оченно генерал приехать просил.
– Какой генерал?
– Да вот, что летось к нам в К. приезжал… сказывал вот, помнится! Насчет облигациев…
– Стало быть, об концессии хлопотать приехали?
– Парень-то уж больно хорош. Говорит: "Можно сразу капитал на капитал нажить". Ну, а мне что ж! Состояние у меня достаточное; думаю, не все же по гривенникам сколачивать, и мы попробуем, как люди разом большие куши гребут. А сверх того, кстати уж и Марья Потапьевна проветриться пожелала.
– Какая Марья Потапьевна?
– Уж и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга…
Мне показалось, что, говоря это, он как-то посмотрел совсем уже вкось.
– Не видал я ее, Осип Иваныч, не привелось в ту пору. А красавица она у вас, сказывают. Так, значит, вы не одни? Это отлично. Получите концессию, а потом, может быть, и совсем в Петербурге оснуетесь. А впрочем, что ж я! Переливаю из пустого в порожнее и не спрошу, как у вас в К., все ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипыч?
– Что им делается! Цветут красотой – и шабаш. Я нынче со всеми в миру живу, даже с Яшенькой поладил. Да и он за ум взялся: сколь прежде строптив был, столь нонче покорен. И так это родительскому сердцу приятно…
– Еще бы! какой он, однако ж, чудак у вас! Марью Потапьевну в Петербург отпустил, а сам в захолустье остался!
– Ведь не одну он ее отпустил, а с родителем. Да ему-то, признаться, в хорошую-то компанию и войти покуда нельзя.
– Что так?
– Да все то же. Вино мы с ним очень достаточно любим. Да не зайдете ли к нам, сударь: я здесь, в Европейской гостинице, поблизности, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мне пристает: покажь да покажь ей господина Тургенева. А он, слышь, за границей. Ну, да ведь и вы писатель – все одно, значит. Э-эх! загоняла меня совсем молодая сношенька! Вот к французу послала, прическу новомодную сделать велела, а сама с «калегвардами» разговаривать осталась.
– Вот как!
– Да, сударь, всякому люду к нам теперь ходит множество. Ко мне – отцы, народ деловой, а к Марье Потапьевне – сынки наведываются. Да ведь и то сказать: с молодыми-то молодой поваднее, нечем со стариками. Смеху у них там… ну, а иной и глаза таращит – бабенке-то и лестно, будто как по ней калегвардское сердце сохнет! Народ военный, свежий, саблями побрякивает – а время-то, между тем, идет да идет. Бывают и штатские, да всё такие же румяные да пшеничные – заодно я их всех «калегвардами» прозвал.
– Что ж, чай, любезности напевают Марье Потапьевне?
– Не без того. Ведь у вас, в Питере, насчет женского-то полу утеснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизии про них не припасено. Следственно, они и гогочут, эти самые «калегварды». Так идем, что ли, к нам?
Ясно, что передо мной, в течение целого месяца, каждодневно производился тот самый акт «потрясения», который поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было оно, это было «потрясение», и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклейменных преданием "страшных слов", – эти люди, говорю я, по-видимому, даже и не подозревают, что рядом с ними, чуть ли не ими самими, каждый час, каждую минуту, производится самое действительное из всех потрясений, какое только может придумать человеческая злонамеренность!
И с какою наивною бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт "потрясения общественных основ". Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяныч, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тот является чуть не грабителем или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами «показывания», представленными Зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой, в надежде, что Бородавкин, под влиянием «пунштов», ходчее пойдет в устроиваемую ему Зайцем ловушку?
И чем дольше я думал, тем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом. И по мере того как она исчезала, на ее место, сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее, всплывала другая решимость: бросить! Бросить все и бежать!
Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: возьми всё – и отстань!..
Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с Зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу.
Я ждал довольно долго. Наконец, часа через три, осторожно, словно крадучись, вошел в мою комнату Заяц. Лицо его, в буквальном смысле слова, было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность.
– Желают вас видеть, – доложил он шепотом.
Я чувствовал, что решительный час настал; но все еще колебался.
– Ваше высокоблагородие! позвольте вам доложить! – продолжал он таинственно, – они теперича в таком пункте состоят, что всего у них, значит, просить можно. Коли-ежели, к примеру, всю дачу продать пожелаете – они всю дачу купят; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и дом – они и на это согласны! Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное!
И надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен!!
ПРЕВРАЩЕНИЕ
На днях иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазам не верю: по лестнице магазина сходит сам Осип Иванович Дерунов!
Нужно было в свое время очень запечатлеть в памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его в том обличии, в каком он предстал передо мной в эту минуту. На плечах накинута соболья шуба редчайшей воды (в "своем месте" он носит желтую лисью шубу, а в дорогу так и волчьей не брезгает), на голове надет самого новейшего фасона цилиндр, из-под которого высыпались наружу серебряные кудри; борода расчесана, мягка, как пух, и разит духами; румянец на щеках даже приятнее прежнего; глаза блестят… Словом сказать, лет двадцать пять с плеч долой – никак не меньше.
И прежде случалось, что Дерунов по временам наезжал в Петербург по своим делам, но приезды эти всегда совершались более чем скромно. Останавливался он обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатиевского, сына к – ского пономаря, который служил в одном из департаментов столоначальником, досиделся до чина статского советника и с получением его воспользовался титулом управляющего столом. Если же у кума было нельзя приютиться (Зачатиевский был необыкновенно плодущ, и не всегда в его квартире имелся свободный угол), в таком случае Дерунов нанимал дешевенький нумер в гостинице «Рига» или у Ротина, и там все его издержки, сверх платы за нумер, ограничивались требованием самовара, потому что чай и сахар у него были свои, а вместо обеда он насыщался холодными закусками с сайкой, покупаемыми у лоточников. Франтить он не только не франтил, но даже, ступая на петербургскую почву, как бы с расчетом усугублял невзрачность своего костюма. Иногда, во время этих наездов, он удостоивал посещать и меня.
– Охота вам, Осип Иваныч, себя изнурять! – бывало, скажешь ему, – человек вы состоятельный, а другие говорят и богатый, могли бы в Петербурге шику задать, а вы вот в сибирке ходите да белужиной, вместо обеда, пробавляетесь!
– А ты слушай-ко, друг, что я тебе скажу! – благосклонно объяснял он мне в ответ, – ты говоришь, я человек состоятельный, а знаешь ли ты, как я капитал-то свой приобрел! все постепенно, друг, все пятачками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мне бы в карете ездить надо, а за нее поди пять рублей в день отдать мало! А теперь я от Ивана Иваныча (Зачатиевского, из Измайловского полка) выйду – платье-то у меня таковское: и забрызгает – терпит! Вот я иду-иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничек, а потом, у Вознесенья, и пятиалтынничек. Времени передо мной достаточно, на пожар спешить нечего. Не возьмет извозчик пятиалтынничка – я и до адмиралтейства, заместо прогулки, дойду, а оттоль уж за гривенничек и сяду до биржи. Ан сочти-ка ты, сколько гривенников-то за день в кармане останется – ведь шутя-шутя полтора-два рубля в сутки набежит!
– А вам очень эти полтора-два рубля дороги?
– Мне все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я ведь всякою операцией орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякий, значит, товар. Во всё пальцем колупнуть должен, а иное и на язык испробовать. Кабы теперича я в хорошем платье да в перчатках ходил, как бы к товару-то я приступился? Ведь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно поди денег стоит. Вот и стал бы я, вместо того, чтобы сам до всего доходить, прикащика за себя посылать, а прикащику-то плати, да он же тебя за твои деньги продаст! А теперь – святое дело! Нужды нет, что по пятачкам да по гривенничкам сбираем: курочка и по зернышку клюет, да сыта бывает!
– Ну, вы-то чай, не всё по зернышку клюете? Как сало-то на язык попробуете – в кармане, смотри, и изрядный куш очутится!
– Бывают и куши – и от кушей не отказываемся. Да ведь и тут опять: отчего эти самые куши до нас доходят? Всё через нашу же экономию да осмотрительность! Лучше скажу тебе: даже немец здешний такое мнение об нас, русских, имеет, что в худом-то платье человеку больше верят, нежели который человек к нему в карете да на рысаках к крыльцу подъедет. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопок нужен; как приду я к немцу в своем природном, русском виде, мне и поклониться ему не стыдно! Да и он тоже, глядя на мою одёжу, соображает: "Этот человек, говорит, основательный!" Глядишь – ан мне и уступочка за мою основательность. Нет, сударь, видно, нам, русским, еще предел не вышел в хорошем-то платье ходить!
И вот этот самый человек, возведший хождение в худом платье чуть не в теорию, является передо мной совершенным франтом. Из-за распахнувшейся на мгновение шубы я заметил отлично сшитый сюртук и ослепительной белизны рубашку с крупными брильянтовыми запонками; на руках перчатки a double couture,[24 - двойной строчки (франц.)] на шее – узенький черный col…[25 - галстук (франц.)] Только сапоги навыпуск обличают русского человека, да и то, быть может, он сохранил их потому, что видел такие же у какого-нибудь знакомого кирасира.
– Осип Иваныч – вы? – спросил я нерешительно.
– Самолично-с.
Он высунул из-под шубы два пальца, один из которых я слегка и потянул к себе, сказав:
– Вот вы и в перчатках! а помните, недавно еще вы говорили, что вам непременно голый палец нужен, чтоб сало ловчее было колупать и на язык пробовать?
– Было… и это! – ответил он, несколько сконфузясь, – а что только два пальца вам подал, так этому есть причина: шубу поддерживаю.
– Нет, в самом деле! Не шутя, ведь узнать вас нельзя, Осип Иваныч! Похорошели! помолодели! Просто двадцать пять лет с костей долой! Надолго ли в Петербург?
– Думаю недельки две еще побыть.
– А помнится, вы не очень-то Петербург долюбливали? По делам?
– По делам… ну, и проветриться тоже… Сидишь-сидишь, этта, в захолустье – захочется и на свет божий взглянуть!
– И прекрасно. Теперь, стало быть, вам остается только «штучку» какую-нибудь подцепить – и дело в шляпе! А может быть, вы уж и подцепили?
– Есть их, "штучек"-то… довольно здесь! Я, впрочем, не столько для них, сколько для того, что уж оченно генерал приехать просил.
– Какой генерал?
– Да вот, что летось к нам в К. приезжал… сказывал вот, помнится! Насчет облигациев…
– Стало быть, об концессии хлопотать приехали?
– Парень-то уж больно хорош. Говорит: "Можно сразу капитал на капитал нажить". Ну, а мне что ж! Состояние у меня достаточное; думаю, не все же по гривенникам сколачивать, и мы попробуем, как люди разом большие куши гребут. А сверх того, кстати уж и Марья Потапьевна проветриться пожелала.
– Какая Марья Потапьевна?
– Уж и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга…
Мне показалось, что, говоря это, он как-то посмотрел совсем уже вкось.
– Не видал я ее, Осип Иваныч, не привелось в ту пору. А красавица она у вас, сказывают. Так, значит, вы не одни? Это отлично. Получите концессию, а потом, может быть, и совсем в Петербурге оснуетесь. А впрочем, что ж я! Переливаю из пустого в порожнее и не спрошу, как у вас в К., все ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипыч?
– Что им делается! Цветут красотой – и шабаш. Я нынче со всеми в миру живу, даже с Яшенькой поладил. Да и он за ум взялся: сколь прежде строптив был, столь нонче покорен. И так это родительскому сердцу приятно…
– Еще бы! какой он, однако ж, чудак у вас! Марью Потапьевну в Петербург отпустил, а сам в захолустье остался!
– Ведь не одну он ее отпустил, а с родителем. Да ему-то, признаться, в хорошую-то компанию и войти покуда нельзя.
– Что так?
– Да все то же. Вино мы с ним очень достаточно любим. Да не зайдете ли к нам, сударь: я здесь, в Европейской гостинице, поблизности, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мне пристает: покажь да покажь ей господина Тургенева. А он, слышь, за границей. Ну, да ведь и вы писатель – все одно, значит. Э-эх! загоняла меня совсем молодая сношенька! Вот к французу послала, прическу новомодную сделать велела, а сама с «калегвардами» разговаривать осталась.
– Вот как!
– Да, сударь, всякому люду к нам теперь ходит множество. Ко мне – отцы, народ деловой, а к Марье Потапьевне – сынки наведываются. Да ведь и то сказать: с молодыми-то молодой поваднее, нечем со стариками. Смеху у них там… ну, а иной и глаза таращит – бабенке-то и лестно, будто как по ней калегвардское сердце сохнет! Народ военный, свежий, саблями побрякивает – а время-то, между тем, идет да идет. Бывают и штатские, да всё такие же румяные да пшеничные – заодно я их всех «калегвардами» прозвал.
– Что ж, чай, любезности напевают Марье Потапьевне?
– Не без того. Ведь у вас, в Питере, насчет женского-то полу утеснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизии про них не припасено. Следственно, они и гогочут, эти самые «калегварды». Так идем, что ли, к нам?