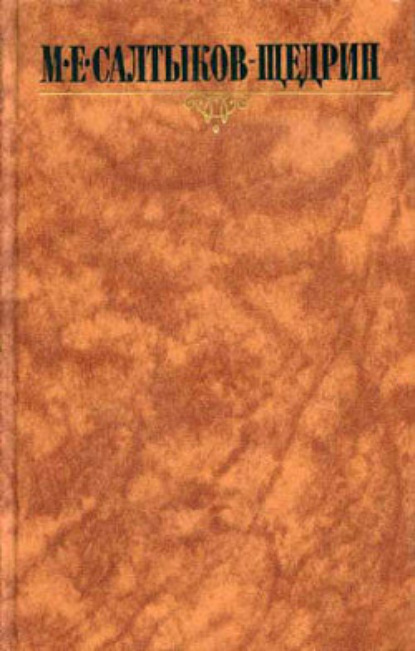По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Благонамеренные речи
Жанр
Серия
Год написания книги
1876
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Проиграл – это верно. Дурак – ну, и проиграл.
– Да ведь у всех на знат'и, что покойник рукой не владел перед смертью! Весь город знает, что Маргарита Ивановна уж на другой день духовную подделала! И писал-то отец протопоп!
– И подделала, и все это знают, и даже сам отец протопоп под веселую руку не раз проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь миллион чистоганом, а у Харина – кошель через плечо. Потому, дурак!
– Дурак-то дурак! однако, все-таки…
– Дурак – и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: «Бери, говорит, двадцать тысяч и ступай с богом», – зачем он не мирился! Зачем не мирился, коли знает, что он дурак! «Нет, говорит, подавай всё!» Это дураку-то! Где эти моды писаны! Опять, и отец протопоп, и Иван Ферапонтыч – предлагали они ему! Предлагали они ему: «Дай нам по десяти тысяч – всё по чистой совести покажем!» Скажем: «Подписались по неосмотрительности – и дело с концом». Зачем он не соглашался! Зачем не соглашался, коли сам знает, что он дурак! Маргарита Ивановна – та слова не сказала: сейчас вынула и отдала! А он кочевряжился! И хочь бы деньги с него просили, а то векселя. Ну, дал бы, а потом еще бабушка надвое сказала, какова бы по векселям-то получка была! Может быть, они совсем не его рукой подписаны? А может быть, они безденежные? Дурак!!
– Так неужто ж Маргарита Ивановна так-таки ничего и не даст?
– И не даст. Потому, дурак, а дураков учить надо. Ежели дураков да не учить, так это что ж такое будет! Пущай-ко теперь попробует, каково с сумой-то щеголять!
Собеседники смолкают. Слышится позевывание; папироски еще раз-другой вспыхнули и погасли. Через минуту я уже вижу в окно, как оба халата сидят у ненакрытого стола и крошат в чашку хлеб.
– Дуррак! – раздается в темноте.
А у соседнего домика смех и визг. На самой улице девочки играют в горелки, несутся взапуски, ловят друг друга. На крыльце сидят мужчина и женщина, должно быть, отец и мать семейства.
– Этакой случай был – и упустил. Дурак! – укоряет женщина.
– Да ты знаешь ли, дура, чем Сибирь пахнет! – возражает мужчина.
– Для дурака, куда ни оглянись – везде Сибирь. Этакой случай упустил!
Женщина вздыхает и умолкает, но не надолго.
– Дурак! – повторяет она.
– Не мути ты меня, ради Христа! Дурак да дурак! Нешто я не вижу! И словно ведь дьявол меня осетил!
– И чего ты глядел! Счастье само в руки лезет, а он, смотри, нос от него воротит! Дуррак!
Мужчина, уличенный и подавленный, не возражает. Раздаются вздохи и позевота; изредка, сквозь сон, произносится слово «дурак» – и опять тихо. Но на улице, между играющими девочками, происходит смятение.
– Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! – протестует жалобный голос одной из девочек.
– Ан я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! – возражает другой голос, более мужественный и крепкий.
– Я первая ударила! не мне гореть! Маньке гореть!
Спор оживляется, но протестующая сторона видимо слабеет. Слышатся возгласы: «Дура! криворотая! ишь что выдумала!» и т. д. Возгласы готовы перейти в побоище.
– Цыц, паскуда! – раздается с крыльца.
Протесты мгновенно смолкают; горелки продолжаются уж без шума, и только изредка безмолвие нарушается криком: «Дура! что, взяла?»
На третьем крыльце беседуют две сибирки.
– Наш хозяин нынче такую аферу сделал! такую аферу, что страсть! – отзывается одна сибирка.
– Уж что об вашем хозяине говорить! Хозяин – первый сорт! – отзывается другая сибирка.
– Нет, да ты вообрази! Продал он Семену Архипычу партию семени, а Семен-то Архипыч сдуру и деньги ему отдал. Стали потом сортировать, ан семя-то только сверху чистое, а внизу-то все с песком, все с песком!
– Дурак!
– Нет, ты вообрази! Все ведь с песком! Семен-то Архипыч даже глаза вытаращил: так, говорит, хорошие торговцы не делают!
– Дурак!
– А хозяин наш стоит да покатывается. «А у тебя где глаза были? – говорит. – Должен ли ты иметь глаза, когда товар покупаешь? – говорит. – Нет, говорит, вас, дураков, учить надо!»
– Дурак!
Дурак! дурак и дурак! – вот единственные выражения, которые раздаются в моих ушах. Мне становится наконец страшно. Куда деваться от этого паскудного, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преследует меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума. Даже тут, в виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имеет какой-нибудь определенный смысл. Прислушайтесь к остальному говору – и вы наверное ничего из него не вынесете. Это сброд каких-то обрывков, ряд бродячих, ничем не связанных восклицаний, не имеющих даже характера проявления мысли. Детский, неосмысленный лепет, полусонное бормотание, в котором не за что ухватиться и нечего понимать, – вот что прежде всего поражает ваш слух. И вдруг прорывается слово «дурак» – и речь оживляется, начинает течь плавно и получает смысл. Все, что до сих пор бормоталось, все бессмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздух, – все это бормоталось, копилось, нанизывалось и собиралось в виду одного всеразрешающего слова: «дурак!»
Я скорее побежал в гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поехал на станцию железной дороги.
Нет! мы не просты!
* * *
Станция была тускло освещена. В зале первого класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцании одинокой свечи, буфетчик дышал в стаканы и перетирал их грязным полотенцем. Даже мой приход не смутил его в этом наивном занятии. Казалось, он говорил: вот я в стакан дышу, а коли захочется, так и плюну, а ты будешь чай из него пить… дуррак!
Чтоб не сидеть одному, я направился в залу третьего класса. Тут, вследствие обширности залы, освещенной единственною лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьях сидели и лежали мужики. Большинство спало, но в некоторых группах слышался говор.
– И как же он его нагрел! – восклицает некто в одной группе, – да это еще что – нагрел! Греет, братец ты мой, да приговаривает: помни, говорит! в другой раз умнее будешь! Сколько у нас смеху тут было!
– Дурак!
– Дурак и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем же не в свое дело лезешь? Ну, и терпи, значит!
Я иду далее и слышу:
– Нет, ты слушай, как он немца объегорил. Вот так уж объегорил! Купил, братец, он у немца в роще четыреста сажен дров для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозил, значит, склал: милости просим, мол, Богдан Богданыч, ко мне в дом расчетец получить. Пришел Богдан Богданыч – он его честь честью: заедочков, шипучки и все такое. «Ну, говорит, пиши, Богдан Богданыч, расписку, пока я долг готовить буду». Стал это, как и путный, деньги считать, а немец ему тем временем живо расписку обработал. Только взял он у немца расписку посмотреть, видит – верно: тысячу двести рублей сполна получил. Да вместо того чтоб деньги-то отдать, он расписку-то вместе с деньгами – в карман. «Сам ты, говорит, передо мной, Богдан Богданыч, сейчас сознался, что деньги с меня сполна получил, следственно, и дожидаться тебе больше здесь нечего».
– Ха-ха! вот, брат, так штука!
– Сколько смеху у нас тут было – и не приведи господи! Слушай, что еще дальше будет. Вот только немец сначала будто не понял, да вдруг как рявкнет: «Вор ты!» – говорит. А наш ему: «Ладно, говорит; ты, немец, обезьяну, говорят, выдумал, а я, русский, в одну минуту всю твою выдумку опроверг!»
– Молодец!
– Нет, ты бы на немца-то посмотрел, какая у него в ту пору рожа была! И испугался-то, и не верит-то, и за карман-то хватается – смехота, да и только!
– Просты еще насчет этих делов немцы! не выучены!
– Чего проще! просто дураки! совсем как оглашенные!
– Да ведь у всех на знат'и, что покойник рукой не владел перед смертью! Весь город знает, что Маргарита Ивановна уж на другой день духовную подделала! И писал-то отец протопоп!
– И подделала, и все это знают, и даже сам отец протопоп под веселую руку не раз проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь миллион чистоганом, а у Харина – кошель через плечо. Потому, дурак!
– Дурак-то дурак! однако, все-таки…
– Дурак – и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: «Бери, говорит, двадцать тысяч и ступай с богом», – зачем он не мирился! Зачем не мирился, коли знает, что он дурак! «Нет, говорит, подавай всё!» Это дураку-то! Где эти моды писаны! Опять, и отец протопоп, и Иван Ферапонтыч – предлагали они ему! Предлагали они ему: «Дай нам по десяти тысяч – всё по чистой совести покажем!» Скажем: «Подписались по неосмотрительности – и дело с концом». Зачем он не соглашался! Зачем не соглашался, коли сам знает, что он дурак! Маргарита Ивановна – та слова не сказала: сейчас вынула и отдала! А он кочевряжился! И хочь бы деньги с него просили, а то векселя. Ну, дал бы, а потом еще бабушка надвое сказала, какова бы по векселям-то получка была! Может быть, они совсем не его рукой подписаны? А может быть, они безденежные? Дурак!!
– Так неужто ж Маргарита Ивановна так-таки ничего и не даст?
– И не даст. Потому, дурак, а дураков учить надо. Ежели дураков да не учить, так это что ж такое будет! Пущай-ко теперь попробует, каково с сумой-то щеголять!
Собеседники смолкают. Слышится позевывание; папироски еще раз-другой вспыхнули и погасли. Через минуту я уже вижу в окно, как оба халата сидят у ненакрытого стола и крошат в чашку хлеб.
– Дуррак! – раздается в темноте.
А у соседнего домика смех и визг. На самой улице девочки играют в горелки, несутся взапуски, ловят друг друга. На крыльце сидят мужчина и женщина, должно быть, отец и мать семейства.
– Этакой случай был – и упустил. Дурак! – укоряет женщина.
– Да ты знаешь ли, дура, чем Сибирь пахнет! – возражает мужчина.
– Для дурака, куда ни оглянись – везде Сибирь. Этакой случай упустил!
Женщина вздыхает и умолкает, но не надолго.
– Дурак! – повторяет она.
– Не мути ты меня, ради Христа! Дурак да дурак! Нешто я не вижу! И словно ведь дьявол меня осетил!
– И чего ты глядел! Счастье само в руки лезет, а он, смотри, нос от него воротит! Дуррак!
Мужчина, уличенный и подавленный, не возражает. Раздаются вздохи и позевота; изредка, сквозь сон, произносится слово «дурак» – и опять тихо. Но на улице, между играющими девочками, происходит смятение.
– Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! – протестует жалобный голос одной из девочек.
– Ан я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! – возражает другой голос, более мужественный и крепкий.
– Я первая ударила! не мне гореть! Маньке гореть!
Спор оживляется, но протестующая сторона видимо слабеет. Слышатся возгласы: «Дура! криворотая! ишь что выдумала!» и т. д. Возгласы готовы перейти в побоище.
– Цыц, паскуда! – раздается с крыльца.
Протесты мгновенно смолкают; горелки продолжаются уж без шума, и только изредка безмолвие нарушается криком: «Дура! что, взяла?»
На третьем крыльце беседуют две сибирки.
– Наш хозяин нынче такую аферу сделал! такую аферу, что страсть! – отзывается одна сибирка.
– Уж что об вашем хозяине говорить! Хозяин – первый сорт! – отзывается другая сибирка.
– Нет, да ты вообрази! Продал он Семену Архипычу партию семени, а Семен-то Архипыч сдуру и деньги ему отдал. Стали потом сортировать, ан семя-то только сверху чистое, а внизу-то все с песком, все с песком!
– Дурак!
– Нет, ты вообрази! Все ведь с песком! Семен-то Архипыч даже глаза вытаращил: так, говорит, хорошие торговцы не делают!
– Дурак!
– А хозяин наш стоит да покатывается. «А у тебя где глаза были? – говорит. – Должен ли ты иметь глаза, когда товар покупаешь? – говорит. – Нет, говорит, вас, дураков, учить надо!»
– Дурак!
Дурак! дурак и дурак! – вот единственные выражения, которые раздаются в моих ушах. Мне становится наконец страшно. Куда деваться от этого паскудного, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преследует меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума. Даже тут, в виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имеет какой-нибудь определенный смысл. Прислушайтесь к остальному говору – и вы наверное ничего из него не вынесете. Это сброд каких-то обрывков, ряд бродячих, ничем не связанных восклицаний, не имеющих даже характера проявления мысли. Детский, неосмысленный лепет, полусонное бормотание, в котором не за что ухватиться и нечего понимать, – вот что прежде всего поражает ваш слух. И вдруг прорывается слово «дурак» – и речь оживляется, начинает течь плавно и получает смысл. Все, что до сих пор бормоталось, все бессмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздух, – все это бормоталось, копилось, нанизывалось и собиралось в виду одного всеразрешающего слова: «дурак!»
Я скорее побежал в гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поехал на станцию железной дороги.
Нет! мы не просты!
* * *
Станция была тускло освещена. В зале первого класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцании одинокой свечи, буфетчик дышал в стаканы и перетирал их грязным полотенцем. Даже мой приход не смутил его в этом наивном занятии. Казалось, он говорил: вот я в стакан дышу, а коли захочется, так и плюну, а ты будешь чай из него пить… дуррак!
Чтоб не сидеть одному, я направился в залу третьего класса. Тут, вследствие обширности залы, освещенной единственною лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьях сидели и лежали мужики. Большинство спало, но в некоторых группах слышался говор.
– И как же он его нагрел! – восклицает некто в одной группе, – да это еще что – нагрел! Греет, братец ты мой, да приговаривает: помни, говорит! в другой раз умнее будешь! Сколько у нас смеху тут было!
– Дурак!
– Дурак и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем же не в свое дело лезешь? Ну, и терпи, значит!
Я иду далее и слышу:
– Нет, ты слушай, как он немца объегорил. Вот так уж объегорил! Купил, братец, он у немца в роще четыреста сажен дров для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозил, значит, склал: милости просим, мол, Богдан Богданыч, ко мне в дом расчетец получить. Пришел Богдан Богданыч – он его честь честью: заедочков, шипучки и все такое. «Ну, говорит, пиши, Богдан Богданыч, расписку, пока я долг готовить буду». Стал это, как и путный, деньги считать, а немец ему тем временем живо расписку обработал. Только взял он у немца расписку посмотреть, видит – верно: тысячу двести рублей сполна получил. Да вместо того чтоб деньги-то отдать, он расписку-то вместе с деньгами – в карман. «Сам ты, говорит, передо мной, Богдан Богданыч, сейчас сознался, что деньги с меня сполна получил, следственно, и дожидаться тебе больше здесь нечего».
– Ха-ха! вот, брат, так штука!
– Сколько смеху у нас тут было – и не приведи господи! Слушай, что еще дальше будет. Вот только немец сначала будто не понял, да вдруг как рявкнет: «Вор ты!» – говорит. А наш ему: «Ладно, говорит; ты, немец, обезьяну, говорят, выдумал, а я, русский, в одну минуту всю твою выдумку опроверг!»
– Молодец!
– Нет, ты бы на немца-то посмотрел, какая у него в ту пору рожа была! И испугался-то, и не верит-то, и за карман-то хватается – смехота, да и только!
– Просты еще насчет этих делов немцы! не выучены!
– Чего проще! просто дураки! совсем как оглашенные!