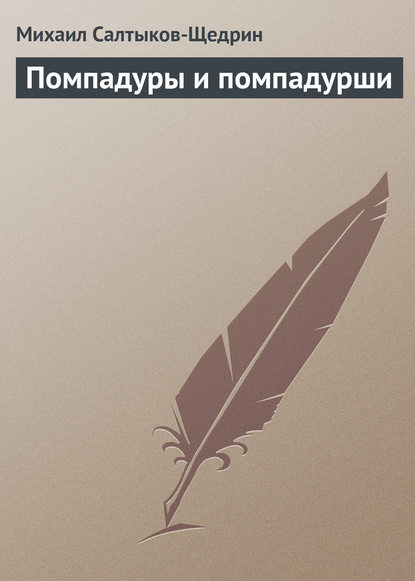По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Помпадуры и помпадурши
Год написания книги
1873
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ни для кого внезапная отставка старого помпадура не была так обильна горькими последствиями, ни в чьем существовании не оставила она такой пустоты, как в существовании Надежды Петровны Бламанже. Исправники, городничие, советники, в ожидании нового помпадура, все-таки продолжали именоваться исправниками, городничими и советниками; она одна, в одно мгновение и навсегда, утратила и славу, и почести, и величие... Были минуты, когда ей казалось, что она даже утратила свой пол.
– Главное, ma chere (моя дорогая), несите свой крест с достоинством! – говорила приятельница ее, Ольга Семеновна Проходимцева, которая когда-то через нее пристроила своего мужа куда-то советником, – не забывайте, что на вас обращены глаза целого края!
Надежда Петровна вздыхала и мысленно сравнивала себя с Изабеллой Испанскою[[25 - Королева Изабелла II Испанская в 1868 году была вынуждена отречься от престола.]]. Что ей теперь «глаза целого края»! что в них, когда они устремлялись на нее лишь для измерения глубины ее горести! Утративши своего помпадура, она утратила все... даже способность быть патриоткою!..
Последние минуты расставания были особенно тяжелы для нее. По обыкновению, прощание происходило на первой от города станции[[26 - Одна из деталей старого русского быта: отъезжающих в далекий путь или на долгое время было принято провожать до первой ямской «станции». Так прощались губернское общество и старые сослуживцы с покидавшими место служения начальниками.]], куда собрались самые преданные, чтобы проводить в дальнейший путь добрейшего из помпадуров. Закусили, выпили, поплакали; советник Проходимцев даже до того обмочился слезами, что старый помпадур только махнул рукою и сказал:
– Уведите! уведите его... он добрый!
Однако Надежда Петровна была сдержанна и даже довольно искусно притворилась веселою. Ее попросили спеть что-нибудь – она не отказалась; взяла гитару и пропела любимую помпадурову песню:
Шли три оне...[[27 - Народная песня.]]
И только в ту минуту, когда пришлось выводить:
Ты, Матрена!
Ты, Матрена!
Не подвертывайся! –
голос ее как будто дрогнул...
Но когда доложили, что лошади поданы, когда старый помпадур начал укутываться и уже заносил руки, чтобы положить в уши канат. Надежда Петровна не выдержала. Она быстро сдернула с своих плеч пуховую косынку и, обвернув ею шею помпадура, вскрикнула... От этого крика проснулось эхо соседних лесов.
– Nadine a ete sublime d'abnegation! (Надин была – верх самоотречения!) – говорила потом одна из присутствовавших на проводах дам. – Представьте себе, она всю дорогу ехала с открытой шеей и даже не хотела запахнуть салопа.
– Et ce cri! – прибавила другая дама, – ce cri! (А этот крик! этот крик!) Это было какое-то вдохновение! это было просто что-то такое...
Как бы то ни было, но старый помпадур уехал, до такой степени уехал, что самый след его экипажа в ту же ночь занесло снегом. Надежда Петровна с ужасом помышляла о том, что ее с завтрашнего же дня начнут называть «старой помпадуршей».
Ничто так болезненно не действует на впечатлительные души, как перемены и утраты. Бывает, что даже просто стул вынесут из комнаты, и то ищешь глазами и чувствуешь, что чего-то недостает; представьте же себе, какое нравственное потрясение должно было произойти во всем организме Надежды Петровны, когда она убедилась, что у нее вынесли из квартиры целого помпадура! Долгое время она не могла освоиться с этою мыслью; долгое время ее как будто подманивало и подмывало. Руки ее машинально поднимались, чтоб ущипнуть или потрепать кого-то по щеке; голова и весь корпус томно склонялись, чтоб отдохнуть на чьей-то груди. В ушах явственно раздавался чей-то голос; талия вздрагивала от мнимого прикосновения чьей-то руки; грудь волновалась и трепетала; губы полуоткрывались, дыхание становилось прерывистым и жгло. Одним словом, в ней как будто сам собой еще совершался тот процесс вчерашней жизни, когда счастье полным ключом било в ее жилах, когда не было ни одного дыхания, которое не интересовалось бы ею, не удивлялось бы ей, когда вокруг нее толпились необозримые стада робких поклонников, когда она, чтоб сдерживать их почтительные представления и заявления, была вынуждаема с томным самоотвержением говорить: «Нет, вы об этом не думайте! это все не мое! это все и навек принадлежит моему милому помпадуру!..»
– Душенька! не мучь ты себя! утри свои глазки! – успокаивал Надежду Петровну муж ее, надворный советник Бламанже, стоя перед ней на коленях, – поверь, такие испытания никогда без цели не посылаются! Со временем...
– Что «со временем»? уж не вы ли думаете заменить мне его? – с негодованием прерывала его Надежда Петровна.
– Друг мой! голубчик! полно! куда мне! Я говорю: со временем...
– Отстаньте! вы мерзки!
Бламанже удалялся в другую комнату и оттуда робко вслушивался, как вздыхала Надежда Петровна.
Бламанже был малый кроткий и нес звание «помпадуршина мужа» без нахальства и без особенной развязности, а так только, как будто был им чрезвычайно обрадован. Он успел снискать себе всеобщее уважение в городе тем, что не задирал носа и не гордился. Другой на его месте непременно стал бы и обрывать, и козырять, и финты-фанты выкидывать; он же не только ничего не выкидывал, но постоянно вел себя так, как бы его поздравляли с праздником.
– Как здоровье Надежды Петровны? – спрашивали его знакомые, встретившись на улице.
– Благодарю вас! – отвечал он любезно, – в ту минуту, как я оставил ее, у нее сидел...
И потом, вдруг скорчив таинственную мину, он прибавлял своему собеседнику на ухо:
– Опять повздорили! – или:
– опять помирились! – смотря по тому, было ли известно собеседнику, что перед этим между помпадурами произошла любовная размолвка или любовное соглашение.
Обыватели не только ценили такую ровность характера, но даже усматривали в ней признаки доблести; да и нельзя было не ценить, потому что у всех был еще в свежей памяти муж предшествовавшей помпадурши, корнет Отлетаев, который не только разбивал по ночам винные погреба, но однажды голый и с штандартом в руках проскакал верхом через весь город.
Поэтому, когда уехал старый помпадур, Бламанже огорчился этим едва ли не более, нежели сама Надежда Петровна. Он чувствовал, что и в его существовании образовался какой-то пропуск; что ему хочется кому-то поклониться – и поклониться некому; хочется вовремя уйти из квартиры – и уйти не для чего; хочется сказать: «Как прикажете?» – и сказать нет повода. Просто не стало резона производить те действия, говорить те речи, которые производились и говорились в течение нескольких лет сряду и совокупность которых сама собой составила такую естественную и со всех сторон защищенную обстановку, что и жилось в ней как-то уютнее, и спалось словно мягче и безмятежнее.
С своей стороны, и Надежда Петровна, за все время своего помпадурствования, вела себя до такой степени умно и осторожно, что не только не повредила себе во мнении общества, но даже значительно выиграла.
Правда, она гордилась своим положением, но гордилась только в том смысле, что она по совести выполняет ту роль благодетельной феи, которая выпала на ее долю по воле судьбы. Ни один исправник не уходил от нее без утешения, ни один частный пристав не миновал того, чтоб не прийти в восторг от ее ласкового обращения.
– Вот уж именно можно сказать: мухе зла не сделала! – восклицали хором эти ревностные исполнители начальственных предначертаний.
Всякому она как будто говорила: посмотри, какая я мягкая, славная, сочная, добрая! и как должен быть счастлив со мной твой начальник! Всякому она сумела сделать что-нибудь приятное. У одного крестила дочь или сына, у другого была посаженой матерью; у бесплодных ела пироги. Не сердилась даже, когда у нее целовали ручки и заводили при этом расслабляющий чувства разговор. Она сама не прочь была поврать, но всякий раз, когда вранье начинало принимать двусмысленный оборот, она, без всякой, впрочем, строптивости, прерывала разговор словами: «Нет! об этом вы, пожалуйста, уж забудьте! это не мое! это все принадлежит моему милому помпадуру!» Одним словом, стояла на страже помпадурова добра.
Очень понятно, что обыватели и это сумели оценить по достоинству.
Вспоминали прежних помпадурш, какие они были халды и притязательные, как наушничали, сплетничали и даже истязали; как они увольняли и определяли, как отягощали налогами и экзекуциями... Передавали друг другу рассказы о корнетше Отлетаевой, которая однажды в своего помпадура апельсином на званом обеде пустила и даже не извинилась потом, и, сравнивая этот порывистый образ действия с благосклонно-мягкими, почти неслышными движениями Надежды Петровны, все в один голос вопияли:
– Мухи не обидела! Самому последнему становому – и тому не сделала зла!
Одним словом, по мере того как она утешала своего помпадура, общественное уважение к ней возрастало все больше и больше. Поэтому выход ее из помпадурш был не только сносный, но даже блестящий. Обыкновенно бывает так, что старую помпадуршу немедленно же начинают рвать на куски, то есть начинают не узнавать ее, делать в ее присутствии некоторые несовместные телодвижения, называть «душенькой», подсылать к ней извозчиков; тут же, напротив, все обошлось как нельзя приличнее. Целый город понял великость понесенной ею потери, и когда некоторый остроумец, увидев на другой день Надежду Петровну, одетую с ног до головы в черное, стоящею в церкви на коленах и сдержанно, но пламенно молящеюся, вздумал было сделать рукою какой-то вольный жест, то все общество протестовало против этого поступка тем, что тотчас же после обедни отправилось к ней с визитом.
– Jamais, au grand jamais! meme dans ses plus beaux jours, elle n'a ete fetee de la sorte! (Никогда, положительно никогда, даже в самые ее счастливые времена, ее не приветствовали таким образом!) – говорила статская советница Глумова[[28 - Персонаж из комедии А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868).]], вспоминая об этом торжестве невинности.
– Просто даже как будто она не Бламанже, а какая-нибудь принцесса! – прибавлял от себя действительный статский советник Балбесов.
Даже кучера долгое время вспоминали, как господа ездили «Бламанжейшино горе утолять» – так велик был в этот день съезд экипажей перед ее домом.
– Вы, пожалуйста, душечка, к нам по-прежнему! – убеждала Надежду Петровну предводительша Веденеева.
– Вы знаете, как мы были привязаны к тому, что для вас так дорого! – прибавляла советница Прохвостова.
– Вы знаете, как мы ценим, как мы понимаем! – перебивала статская советница Глумова.
– Mais venez done diner, chere... sans ceremonies! (Приходите же обедать, дорогая... без церемоний!) – благосклонно упрашивала действительная статская советница Балбесова.
– И чем чаще-с, тем лучше-с! – присовокуплял действительный статский советник Балбесов, поглядывая на помпадуршу маслеными глазами, – горе ваше, Надежда Петровна, большое-с; но, смею думать, не без надежды на уврачевание-с.
Немало способствовало такому благополучному исходу еще и то, что старый помпадур был один из тех, которые зажигают неугасимые огни в благодарных сердцах обывателей тем, что принимают по табельным дням, не манкируют званых обедов и вечеров, своевременно определяют и увольняют исправников и с ангельским терпением подписывают подаваемые им бумаги. Припоминали, как предшествовавшие помпадуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, как они слонялись по присутственным местам с пеной у рта, как хлопали исправников по животу, прибавляя:
– что! много тут погребено всяких курочек да поросяточек! как они оставляли городничих без определения, дондеже не восчувствуют[[29 - Городничий – начальник исполнительной полиции в уездном городе (звание было упразднено в 1862 г.). Определение – санкция начальника губернии на проведение полицейских расследований и других акций – главного источника «безгрешных доходов» дореформенных городничих. Доля этих доходов поступала нередко и к губернаторам.]], как невежничали на званых обедах... и не могли не удивляться кротости и обходительности нового (увы! теперь уже отставного!) помпадура. А так как и он, поначалу, оказывал некоторые топтательные поползновения и однажды даже, рассердившись на губернское правление, приказал всем членам его умереть, то не без основания догадывались, что перемена, в нем совершившаяся, произошла единственно благодаря благодетельному влиянию Надежды Петровны.
– Нет, вы подумайте, сколько надо было самоотвержения, чтоб укротить такого зверя! – говорили одни.
– Ведь она, можно сказать, всякую его выходку на своем теле приняла! – утверждали другие.
– Да-с, это искусство не маленькое! Быть ввержену в одну клетку с зверем – и не проштрафиться! – прибавляли третьи.