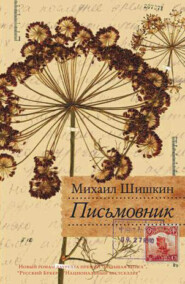По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Венерин волос
Автор
Год написания книги
2011
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что ж удивительного, что Вы получите это мое послание с новостями, может, лишь через много лет. У нас сейчас полпервого. И мое полпервого перенесется к Вам. Впрочем, я уже, кажется, сообщал, что в нашем безграничье что-то не так со временем.
Мое же полпервого заставлено коробками из-под бананов. Остались неразобранными еще после переезда. Стоят у стены. Тогда оставил просто временно, на первые дни, чтобы потом распаковать, а вот первые дни растянулись, вобрали в себя времена года, круговорот снега в природе и зудение комара.
Очень удобная вещь для переезда. В Denner’e тогда взял несколько отличных коробок. А тут хотел что-то найти – и не помню, где это могло бы быть, так что пришлось все разбирать. Всякий хлам, старые записные книжки, газеты, журналы, черновики, вырезки, выписки, допесочный Египет, выпавшая пломба, дебют четырех коней на мосту, вмятинки на паркете от острых каблуков.
А еще нашел бумаги из того самого допесочного Египта, когда толмач был молодым учителем орочей и тунгусов, получал копейки и бегал после школы еще по домашним урокам. У молодого учителя тогда только что вышел в одном журнале первый рассказ, от чего должен был перевернуться мир, но, вопреки ожиданиям, не перевернулся. Его, к счастью, ничто не перевернет. Зато, в утешение, в один зимний дождливый день – уже ползимы прошло, а морозов и снега все не было, и выброшенные новогодние елки валялись во дворе на пожухлой траве – молодому учителю позвонили из одного издательства, которые тогда пооткрывались в каждом подвале, и предложили написать для биографической серии книгу об одной известной когда-то певице, исполнительнице романсов.
Когда он услышал ее имя, сразу вспомнил подвал в Староконюшенном, допотопный электрический проигрыватель с переломанной рукой, которую его отец, бывший подводник, перебинтовал синей изолентой. Будущий молодой учитель слушал на нем без конца свои пластинки про Чипполино и дядю Степу, а его отец – свои старые, черные, тяжелые, и тогда нужно было переключать с 33 оборотов на 78. Проказник и неслух, разумеется, обожал слушать все наоборот, и тогда синьор Помидор чирикал что-то по-лилипутски, а на пластинках отца женские голоса становились похожими на голос дяди Вити, соседа по двору, у которого на войне разворотило челюсть, и он ходил – так говорили – с серебряной трубкой, вставленной в горло.
У бывшего подводника была одна пластинка этой самой певицы. Когда приходил пьяным, он всегда ставил именно ее. Мама шла к соседям или на кухню, а отец захлопывал за ней дверь, брал будущего молодого учителя в охапку, садился на диван, на котором они все втроем спали – женщина укладывала сына, хотя у того была своя кроватка, между собой и мужчиной, наверно вот так, ребенком загораживалась, – и говорил про какую-то Зосю, которая подарила ему эту пластинку, когда их подводная лодка стояла после войны на базе в Либаве. Про Зосю было неинтересно, и будущий молодой учитель просил рассказать про арбузы. И тогда отец вспоминал, как с мальчишками воровал арбузы и дыни с железной дороги. Будущий учитель представлял себе все, как в кино: вот состав замедляет ход, отец-герой, разогнавшись, запрыгивает на подножку арбузного вагона, подбирается, распластавшись на трясучей стене, к заветным окошкам под самой крышей и выбрасывает на ходу из полного вагона арбузы или дыни. Иногда арбузы лопаются, взрываются, как бомбы. Потом он ловко прыгает ровно посередине между двумя столбами и кувыркается под откос. Будущий молодой учитель очень гордился своим отцом и теми арбузами.
И даже сейчас, когда я все это пишу, вдруг ужасно захотелось арбуза, будто это вовсе не отец, а я сам подкрадываюсь, распластавшись по стене грохочущего вагона, к открытому окошку, там темно, и я уже знаю, что в вагоне не арбузы, потому что на меня пахнуло из жаркой, душной темноты дынной коркой.
И вот о той певице с пластинки, певшей голосом дяди Вити с серебряной трубкой в горле, молодому учителю предложили написать. Оказалось, что она до сих пор жива, хотя все думали, что давно умерла. Издательству передали ее воспоминания и дневники. С ней нужно было встретиться и записать рассказы на пленку.
Бедный молодой учитель, разумеется, сразу согласился, тем более что ему пообещали аванс – баснословные триста долларов. В школе он бы столько не заработал и за год. Зачем-то помню, что за окном, во дворе, когда говорил по телефону, две девочки играли в Новый год, воткнув полуосыпавшуюся елку с обрывками серебряной мишуры в кучу грязи рядом с помойкой, и дарили друг другу подарки, протягивая в пустых руках что-то никому, кроме них, не видимое.
В назначенный день, когда нужно было прийти за договором, ударил мороз – все было выстужено, остекленело, и улица, и трамвай. Люди поросли сединой у висков. Усы и бороды у всех засеребрились, и каждый нес перед собой дыхание, как воздушную сахарную вату на палочке. Издалека было видно, как у входа в метро стояло огромное облако пара, плотное. Над дверями, на названии станции, на фронтоне и на колоннах нарос мохнатый лед на полметра.
В подвале, где было издательство, дуло изо всех окон, покрытых толстым слоем инея, в комнатах сидели в шубах. Редактор, которая вела эту книгу, стояла на стуле и заклеивала щели между рамами широким скотчем. Сзади на юбке пристала белая нитка, и молодой учитель поймал себя на том, что вдруг захотелось осторожно снять эту нитку и намотать на палец: Алексей, Борис, Виктор… Дама куталась в шаль, кашляла и сморкалась в прижатый к носу платок и велела не смотреть на нее.
– Я сейчас страшная. Смотрите вот лучше на Синай!
На стенном календаре были какие-то выжженные солнцем горы. У редакционной дамы действительно гноились глаза, и молодой учитель, смутившись, послушно смотрел на Синай. Там был знойный день, воздух раскалился, дрожал, струился.
Пока будущий автор биографии заполнял договор, дама, шмыгая без конца носом, жаловалась, как сложно работать со стариками, и рассказывала о каком-то кинорежиссере, о котором тоже писали книгу из этой серии и который все время забывал, что его сын давно умер, и то и дело спрашивал: «А где Вася?» Ему каждый раз отвечали, что ушел в магазин. Старик, удовлетворенный таким ответом, продолжал рассказывать про свою молодость дальше, со всеми подробностями.
Сами дневники домой не дали, молодой учитель мог взять только ксерокопии, но просмотрел эти тетрадки в тот же день, устроившись на ледяном кожаном диване в застуженном коридоре редакции рядом с каким-то чахлым растением в кадке, которое не замерзло, наверно, только потому, что его окуривали и кадку использовали как пепельницу. Пальцы окоченели, и пришлось надеть перчатки, листать в них было неудобно, страницы скользили и не хотели переворачиваться, пару раз драгоценные тетради даже выпрыгивали из рук на замызганный пол, но никого, к счастью, тогда в коридоре не было.
Дневники в разноцветных допотопных переплетах пахли старыми окурками из кадки, и сквозь эту затхлую вонь пробивался запах слежавшегося в исписанных страницах времени. И еще чуть пахло чем-то женским, вернее, старушечьим, какими-то старыми духами. Чернила выцвели, а иногда она писала карандашом. Одни записи были с датами, другие без. Почерк был скорее неряшливый, все время разный: то страницы шли как вышитые гладью, то каракуль. Некоторые места были просто замазаны густой черной краской. Иногда шли белые листы – будто хотела заполнить их позже. Потом снова беспорядочные записи. Некоторые страницы были вырваны. Судя по нумерации тетрадей, три из них вовсе исчезли.
Окоченев, молодой учитель вернулся в кабинет редактора и снова стал смотреть на залитый солнцем, изнывающий от жары Синай. Ему подумалось: как правильно, что именно там разверзлось синее от марева небо и народу-богоносцу были даны скрижали, а не в парном облаке у входа московского метро, заросшего льдом. А редакторша, сморкаясь, давала указания, что надо поскорее идти встречаться с героиней, потому что ей уже далеко за девяносто, и она тоже уже все путает, отключается, но у нее еще бывают просветы, и вот в такой просвет нужно попасть и ее разговорить. Воспоминания она начала писать уже давно, но все никак не могла выйти из детства, а потом и вовсе забросила.
– Это будет вам подспорьем, – сказала дама, – но особенно не надейтесь, я пыталась это читать – все не то. Главное, постарайтесь ее разговорить. Вы хоть кивайте головой.
Молодой учитель послушно закивал головой, небрежно засовывая стодолларовые купюры, которых никогда до этого и в руках не держал, в карман.
– Как бы вам объяснить, чего бы мне хотелось, – продолжала она. – Суть книги – это как бы восстание из гроба: вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы ей говорите: иди вон! Понимаете?
Он закивал:
– Да-да, конечно, чего же здесь не понять.
Потом в метро, когда ехал домой, все нащупывал, на месте ли три заветные бумажки. Казалось, что все видят, что он везет, и было страшно, что деньги вытащат в потной подземной толчее.
Пачку ксерокопий ее дневников и воспоминаний автор будущей биографии просмотрел в ту же ночь. Старуха действительно писала очень подробно о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без конца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было бесполезно.
На следующий день молодой учитель на перемене позвонил по полученному в редакции телефону. Ему сказали, что Белла Дмитриевна сейчас плохо себя чувствует и встретиться для интервью не может. Попросили перезвонить на следующей неделе. На следующей неделе повторилось то же самое. Наконец договорились о встрече, и он отправился в Трехпрудный переулок.
Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми «жигулями» и заляпанными московской грязью иномарками, вылез из-под снега весь собравшийся за зиму мусор. Код в подъезде был сломан, лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице, заваленной обломками кирпичей от затянувшегося ремонта, газетами и селедочными головами. Стоял московский подъездный дух – пахло мочой, кошками и сырой побелкой. Звонок не работал. Молодой учитель постучал. Долго вглядывались в глазок, потом дверь чуть приоткрылась. Ему сказали, что ночью старуху увезли в больницу. В темноте коридора он мог разглядеть только руки, обсыпанные мукой. В тот момент, когда молодой учитель разговаривал с белеющими мучными руками, с которых сыпалась пыльца, он понял, что из этой книги о певице ничего не выйдет.
Потом он звонил еще несколько раз. Его героиня вернулась из больницы, но встречаться уже не имело смысла – просветов больше не было. Он просил хотя бы об одной встрече – попробовать, вдруг что-то получится.
– Да она никого не узнаёт, – ответили ему. – Поимейте совесть, молодой человек! Оставьте старого, больного человека в покое, нельзя же так!
Время шло. Молодой учитель узнал, что приостановилась, не начавшись, та биографическая серия, для которой он должен был написать книгу. Затем лопнул один большой банк, и вместе с ним исчезло и издательство. Потом было много всего, и пачка ненужных ксерокопий, завернутая в пакет из булочной, валялась несколько лет где-то среди других бумаг и книг.
Когда Белла Дмитриевна умерла, он уже толмачествовал далеко. Узнал о ее смерти случайно, когда прилетел в Москву. Уже прошли торжественные похороны, статьи в газетах, передачи по телевидению. И так получилось, что толмач шел по своим делам и оказался как раз на Трехпрудном. Двор и дом было трудно узнать, все вылизано, у свежепомытых лимузинов, сверкающих на июньском солнце, скучали коротко стриженные крепыши в дорогих костюмах. Две молодые мамаши, оставив коляски, обламывали ветки распускающейся сирени. Толмач постоял рядом с пахучим треском. Потом зачем-то решил зайти. Код был сломан. В подъезде пахло краской после только что оконченного ремонта, и к этому новому запаху уже примешивался старый – кошек, мочи и сырой побелки.
Позвонил в дверь. Открыла та же женщина, с которой разговаривал молодой учитель несколько лет назад. Только теперь в ее мучнистых руках был мобильник. Похоже, квартиру уже кто-то купил, и в коридоре толпились вещи, собранные для переезда. Незваный гость стал объяснять, что когда-то говорил с ней по телефону, поскольку собирался писать о Белле Дмитриевне, и даже был здесь. Его прервали:
– Что вы хотите?
Он и сам толком не знал, чего хотел и зачем пришел. Не объяснять же ей про старый, перевязанный изолентой проигрыватель в Староконюшенном, про синьора Помидора, про голос дяди Вити, про запах дынной корки. Зачем-то спросил:
– А вы были при ее смерти? Как она умерла?
Женщина усмехнулась:
– Вам для печати или как на самом деле?
Пожал плечами:
– Как на самом деле.
– Тогда вот: не могла покойница последнее время никак посрать – что вы хотите, в сто лет! И тут я ночью слышу как гром. Прибегаю, лампа на тумбочке стояла – валяется на полу разбитая, а Белла Дмитриевна с кровати упала – вся, прости Господи, обосралась. И уже Богу душу отдала. Царство ей небесное.
По кухне бегает поросенок со смешным хвостиком. Я с ним играю, мы подружились. Он так заразительно хрюкает. Мы хрюкаем на пару, визжим от поросячьего восторга. Потом его же с таким же смешным и живым хвостиком вижу в столовой на блюде. Я рыдаю и хочу убежать из-за стола. Помню, особенно было страшно, что мне на тарелку хотели положить, чтобы я успокоилась, отрезанный хвостик. Наверно, это было первое в жизни ощущение смерти.
Сколько мне было? Три? Четыре? Не мне, конечно, старой, бестолковой, поглупевшей, а той далекой девочке.
Пятый, поздний, уже нежданный ребенок.
Помню, как брат Саша, самый старший из всех детей, болел скарлатиной. Его изолировали от нас, и я говорю с ним через закрытую дверь. Брат уверяет, что у него сходит кожа, я ни за что не хочу в это поверить, и он просовывает ее кусочки в замочную скважину.
Сестра Аня, моя любимая Нюся, изучает арифметику, делает примеры, уткнувшись в учебник, я пристаю к ней, она сажает меня на колени, и я замираю, видя, как перо выводит удивительные непонятные значки. Нюся рассказывает мне про сложение и вычитание. На Пасху мы идем на кладбище, и вдруг я обнаруживаю, что над умершими людьми стоят плюсы.
Мама приводит младших, Машу, Катю и меня, во французскую кондитерскую на Большом проспекте. Мне нравится название тающих во рту пирожков – птифуры. Зельтерскую воду мы называем кипяточком – за то, что пузырится и щиплет язык.
Когда мы ссоримся и деремся, мама заставляет нас мириться до того, как ложимся спать, – чтобы зло не оставалось на завтра.
Мамины духи – «Muguet de mai».
За столом нельзя вертеться и ерзать, руки ни в коем случае не на коленях, а на столе, и не просто, а так, чтобы оба указательных пальца касались края тарелки. Почему-то считается, что так держит руки государь император.
Мама говорит, что каждый человек должен сажать деревья и копать колодцы – каждому ребенку в нашем палисадничке отводят полоску грядки, и мы сажаем там что-то и поливаем. Я прибегаю каждый день смотреть, как пробиваются к свету мои горошинки, как поднимаются мои зеленые росточки. Потом как-то ночью к нам залезают мальчишки из Темерника и все вытаптывают. Мама убеждает нас, что нужно сажать снова, но я не хочу.
Утром мама в халате с широкими рукавами – приятно залезть в рукав головой. После завтрака взрослые пьют кофе, и она дает детям в ложке кусочек сахара, обмакнув его в черный кофе из своей чашки. А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня подлизой. Я воспринимала это буквально, потому и говорю: лизычок, а не язычок.