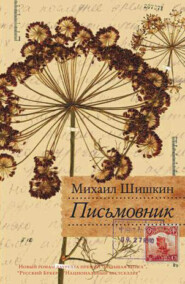По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Венерин волос
Автор
Год написания книги
2011
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, забыл сказать, что людоедство не перевелось и у нас, причем пожирает всех не кто-нибудь, а самодержец самолично, или самодержица, давно не заглядывал в придворный адрес-календарь, а род ведь зависит от наречия, короче, один такой Ирод Великий, но если об этом не думать постоянно, то живется тут припеваючи приставший в трамвае мотивчик. На остановке у вокзала сегодня кто-то вышел, насвистывая.
Забавно – когда-нибудь через много лет получите это письмо и, возможно, даже не вспомните, что были некогда императором вот этой чудесной прикнопленной империи.
Блокнот, ручка, стакан воды. Солнце за окном. Вода в стакане пускает солнечный зайчик – не зайчик, а целый солнечный зайчище, – переливается на потолке и вдруг на какое-то мгновение становится похожим на ухо. И еще на зародыша. Открывается дверь. Вводят.
Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.
Ответ: Я работал на таможне на границе с Казахстаном. Военные перевозили наркотики в своих машинах, и мой начальник был с ними в сговоре, мы должны были на все закрывать глаза и оформлять как полагается. Я написал письмо в ФСБ. Через несколько дней на улице мою дочь сбила машина, а мне позвонили и сказали, что это первое предупреждение.
Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.
Ответ: На выборах губернатора я активно поддерживал кандидата оппозиции, участвовал в митингах протеста и сборах подписей. Меня вызывали в милицию и требовали прекратить выступать против руководства области с разоблачениями. Неоднократно меня избивали переодетые в штатское милиционеры. К заявлению о предоставлении убежища мною приложены медицинские свидетельства о переломе челюсти и руки и о других последствиях избиений. Я теперь, как вы видите, инвалид и не могу работать. У моей жены, приехавшей со мной, рак желудка.
Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.
Ответ: Я болен СПИДом. У нас в городе все от меня отвернулись. Даже жена и дети. А меня заразили, когда я лежал в больнице, при переливании крови. У меня теперь ничего нет: ни работы, ни друзей, ни дома. Мне скоро умирать. Я решил так: если все равно подыхать, так хоть здесь, у вас, в человеческих условиях. Ведь не выкинете.
Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.
Ответ: Был в Мунтянской православной земле воевода по имени Дракула. Однажды турецкий паша прислал ему послов с требованием отказаться от православной веры и покориться ему. Послы, говоря с воеводой, не сняли своих шапок и на вопрос, почему они оскорбляют таким образом великого государя, ответили: «Таков обычай, государь, земля наша имеет». Тогда Дракула велел своим слугам гвоздями прибить шапки к головам послов и отослал их тела обратно, велев передать паше, что Бог у нас один, а обычаи разные. Разъяренный паша пришел в православную землю с огромной армией и стал грабить и убивать. Воевода Дракула собрал все свое немногочисленное войско и напал на мусульман ночью, убил их множество и обратил в бегство. Утром он устроил смотр своим оставшимся в живых бойцам. Кто ранен был спереди, тому честь великую воздавал и называл его витязем. У кого же рана была на спине, того велел сажать на кол, говоря: «Ты не муж, но жена». Услышав об этом, паша увел остатки своего войска обратно, не смея больше нападать на эту землю. Так жил воевода Дракула в своих владениях дальше, и было в ту пору в Мунтянской земле много нищих, убогих, больных и немощных. Видя, что столько в его земле мучается несчастных людей, велел он всем прийти к нему. И собралось бесчисленное множество несчастных, калек и сирот, чающих от него великой милости, и стали они ему говорить каждый о своих несчастьях и болях, кто о потерянной ноге, кто о вытекшем глазе, кто об умершем сыне, кто о неправедном суде и без вины брошенном в тюрьму брате. И был плач велик, и стон стоял по всей Мунтянской земле. Тогда повелел Дракула собрать всех в одну великую храмину, для того случая построенную, и велел дать им яств изысканных и пития довольно. Они же ели, пили и возвеселились. Он тогда пришел к ним и спросил: «Чего еще вы хотите?» Они все отвечали: «То ведает Бог и ты, великий государь! Поступи с нами так, как тебя Бог вразумит!» Тогда он сказал им: «Хотите, сделаю вас беспечальными на сем свете, чтобы ни в чем у вас нужды не было, чтобы не плакали вы о потерянной ноге и вытекшем глазе, об умершем сыне и неправедном суде?» Они же чаяли от него какого-то чуда и ответили все:
«Хотим, государь!» Тогда он велел запереть храмину, обнести соломой и поджечь. И был огонь великий, и все в нем сгорели.
Любезный Навуходонозавр!
Заглянул в почтовый ящик – от Вас ничего.
Верно, Вам не до нас. Да мы и не ропщем – ведь Вас ждут дела государственного значения. Не дай бог, объявите кому-нибудь войну, или нападут инопланетяне. За всем глаз да глаз нужен. Тут уж не до писем.
У нас все по-старому.
Вселенная расширяется. Толмач толмачит.
Вот придешь домой, а выкинуть из головы все, что было днем, не получается. Все с собой домой и принес.
Никак от тех людей и слов не освободиться.
А там все то же. Да и что может быть на толмачовой службе нового? Все по накатанной дорожке. Все по утвержденной в высших сферах форме. Каждый вопрос по установленному образцу, каждый ответ тоже. А на стандартное приветствие Петр даже и голос не тратит – дает толмачу зачитать с листа оробевшему GS. Толмач и зачитывает: «Здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли! Заходите, пожалуйста, скоротаем вместе этот бесконечный день! Вы присаживайтесь, небось устали с дороги. В ногах правды нет. Мы сейчас велим самоварчик поставить! Валенки-то, валенки давайте вот сюда, поближе к печке! Ну, как вам наше лучшее из белых пятен на карте, где человек есть то, что он есть, и говорит то, что он молчит? Не осмотрелись еще? Успеете! Может, хотите пересесть вот сюда, подальше от окошка, чтобы, не ровен час, не надуло? Скажете, если сквозит? Вот и ладненько. Да, о чем бишь мы? Так вот, приезжают сюда всякие, все какие-то помятые, недалекие, с плохими зубами, – и врут. Уверяют, что документы потеряли, – это чтобы сразу обратно не выслали. Рассказывают про себя страшные истории. Нестрашные здесь не рассказывают. Да еще с подробностями. Тычут свои слоновьи кисти, в которые якобы шприцом загнали расплавленный вазелин. Страшилки и ужастики. Да еще такое загнут, что хоть садись и детективы строчи. Будто мама в детстве не учила, что нужно говорить правду. Бьют на жалость! В рай они захотели! Мученики нашлись! А дело не в жалости. Дело в выяснении обстоятельств. Для того чтобы не пустить в рай, очень важно узнать то, что было на самом деле. Но как выяснишь, если люди здесь становятся рассказанными ими историями. Никак не выяснишь. Значит, все просто: раз нельзя выяснить правду, то нужно выяснить хотя бы неправду. По инструкции, неправдоподобие в показаниях дает основание поставить вот этот самый штамп. Так что получше придумывайте себе легенду и не забывайте, что самое главное – мелкие детали, подробности. Кто бы поверил в то же воскрешение, если б не деталь с пальцем, вложенным в рану, или как стали вместе есть печеную рыбу? А вообще-то, штамп штампом, но, положа руку на сердце, разве пейзаж так черен, как вы его малюете? Да вы оглянитесь! Вот тучи ползут на пузе. Вон на скамейке кто-то поел и оставил газету, а теперь воробей клюет буквы. На плотине, видите, блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Сирень пахнет дешевыми духами и верит, что все будет хорошо. Камни и те живые, размножаются крошением. Да вы и не слушаете. Как об стенку горох. Знают только свое: напали, связали, отвезли в лес, избили да бросили. Может, и правильно сделали, что избили! Долги-то платить надо или не надо? То-то же! Или вот были в один день два парня, вместе сдались: один якобы из подмосковного детдома, а другой из Чечни. А через неделю из полиции переслали их паспорта – они спрятали свои документы в какой-то бетонной трубе у железной дороги и рабочие их случайно нашли. Оба из Литвы. Приехали на каникулы. За гостиницу платить дорого, а так – и крыша над головой, и накормят. И результаты костного анализа показали, что им далеко за шестнадцать. Штамп. Штамп. Или вот сдается семья: папа, мама и дщерь иерусалимская. Уверяют, что бежали из Жидятина – мочи не стало терпеть преследований древлян. Это, говорят, не древляне, это настоящие фашисты! Да спасет Бог евреев, а если не может, то пусть хоть гоев! Стали рассказывать, как их православные избивали – у мужа и жены выбили передние зубы, а дочь, ей не было еще двенадцати, изнасиловали. Петр, как положено, каждого допрашивал отдельно. Папа и мама говорили примерно одно и то же, как по выученному тексту: угрозы по почте, ночные телефонные звонки, нападения на улице перед подъездом et cetera. А потом пригласили девочку. В открытую дверь было видно, как она прижалась к маме и не хотела идти, а та ей сказала: “Иди, не бойся!” Вошла, села на край стула. Петр, чтобы как-то ободрить, протянул ей шоколадку, у него в правом ящике стола лежат шоколадки для таких случаев. Это инструкцией не предусмотрено, но кто ж запретит? И вот Петр спрашивает, религиозна ли их семья, а та в ответ: “Ей-богу! Мы в церковь все время ходим”. И для пущей убедительности перекрестилась. С испугу все перепутала. Батя наверняка негоциант-неудачник, а с партнерами-древлянами шутки плохи. Историю, чтобы сдаться, взяли стандартную, верняк – кто ж посмеет иудеев не пожалеть? Думали, что обойдется: ведь отсутствие зубов нельзя симулировать, да и изнасилование ребенка, согласно медицинскому осмотру, действительно имело место. Штамп. А чего стоит только посмотреть, как подписывают протокол! Один – послушно кивая, мол, мы люди темные, что нам скажете подписать, то и подмахнем, другой будет сверять даже правописание географических названий. Третий, который приехал с пачкой справок из всех домов скорби, костоправен и кутузок и уверял, что никому больше на этом свете не верит, потребовал даже письменного перевода протокола – устного ему, вишь, недостаточно и подписи под неизвестно чем он ставить из принципа не будет. Петр ему сразу – штамп. А тот и здесь митинговать. Пришлось свистеть стражу. Пригрозили алебардой. Такому и в нашей ближнелюбивой недолго до костоправни. А четвертый вовсе попросит занести в протокол, что у нас тут хорошо, и не холодно и не жарко, а у них четыре времени года: зима, зима, зима и зима. Знаем мы вас! Сдаетесь как мученики зимы, а потом воровать! Сколько раз было: сначала знакомимся на интервью – здрасьте-здрасьте, а потом жданная встреча в полиции, как поймают на воровстве – толмач ведь и в полиции подрабатывает – о, старые знакомые! Давненько-давненько! И опять начинаются страсти-мордасти, мол, директора магазина “Мигро” на выходе у касс вовсе не кусал, а если и кусал, то только потому, что тот стал душить. Так вот, вернемся к нашим баранам. Вы на себя посмотрите! До седин дожили и всё в бегах! Где паспорт? Не знаете? А мы знаем: на вокзале в камере хранения. Или в беженском хайме у ранее сдавшегося дружка-корешка. Вот оформим вас, получите подорожную по казенной надобности на придуманную фамилию, выйдете и прямиком за документами. Что, не так? Потом устроитесь на всем готовом – и вперед: воровать да скупать по дешевке краденое. Горюет, а сам ворует. Ни плут, ни картежник, а ночной придорожник. Голодный, и архиерей украдет. И про работу нам тут мозги не пудрите! Да кому вы здесь такие нужны? Тут и без вас много желающих. Много званых, черномазый, да мало избранных. Здесь в магазинах воруете, а у себя там в ларьках продаете – вот вся ваша работа. Ну и что, что все на сигнализации! Не знаете, что ли, как сумки делать? Это очень просто: берете алюминиевую фольгу и изнутри приклеиваете, получается как отражающий мешок, никакая сигнализация не сработает. Выноси что хочешь. Потом переправляете. Как? Да хотя бы по почте. Пишете, мол, подарок, поношенные вещи и прочая дребедень. Тут главное обратный адрес. В телефонной книге найдите кого-нибудь поприличней, а еще лучше какую-нибудь благотворительную организацию. Никто тогда и не придерется. Понятно? Что значит – не получится?! Глаза боятся, руки делают! Не вы первые, не вы последние! Так что говорите правду и ничего, кроме правды! И не забывайте, что в ваши леденящие кровь истории никто давно не верит, ведь жизнь состоит еще из любви и красоты, потому что я сплю, а сердце мое бодрствует, вот, голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! – потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою. Вы поняли ваши права и обязанности и что в рай все равно никого не пустят?» GS: «Да». Петр, беря у толмача бумажку с текстом приветствия: «Вопросы есть?» GS: «Пусть говорящие фиктивны, но говоримое реально. Правда есть только там, где ее скрывают. Хорошо, люди не настоящие, но истории, истории-то настоящие! Просто насиловали в том детдоме не этого губастого, так другого. И рассказ о сгоревшем брате и убитой матери тот парень из Литвы от кого-то слышал. Какая разница, с кем это было? Это всегда будет верняком. Люди здесь ни при чем, это истории бывают настоящие и ненастоящие. Просто нужно рассказать настоящую историю. Все как было. И ничего не придумывать. Мы есть то, что мы говорим. Свежеструганая судьба набита никому не нужными людьми, как ковчег, все остальное – хлябь. Мы станем тем, что будет занесено в протокол. Словами. Поймите, Божья мысль о реке есть сама река». Петр: «Тогда приступим». И понеслась: вопрос-ответ, вопрос-ответ. А из форточки хлопья снега. Как это так? Только что было лето, а уже заснежило. В окно виден двор, там какой-то негр под присмотром полицейского большой железной лопатой соскребает снег с дорожки. Тонкое железо царапает асфальт, совсем как в Москве. А вот повели на интервью вторую утреннюю партию озябших GS, кутаются в куртки и шарфы, в основном негры и азиаты, топают по свежевыпавшему снегу, и чей-то ребенок, арабчонок или курд, а может, иранец, кто их, пятилетних, разберет, все норовит зачерпнуть горстью и слепить снежок, а мать на него цыкает и тащит за руку. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потом перерыв, кофе из пластмассового стаканчика. В другом окне другой двор, тоже снег, и негритята играют в снежки. Но эти негритята ведь только что играли в снежки, или уже год пролетел? И снова вопрос-ответ, вопрос-ответ. Будто разговариваешь сам с собой. Сам себе задаешь вопросы. Сам себе отвечаешь.
Перед сном толмач пытается читать, чтобы забыться. Хочется еще, прежде чем выключить свет и положить подушку на ухо, унестись на другой конец империи и пройти вместе с Киром по пустыне, имея Евфрат по правую руку, в пять переходов 35 парасангов. Там земля представляет собой равнину, плоскую, как море, и заросшую полынью. Встречные растения – кустарники и тростники – все прекрасно пахнут, словно благовония. Там нет ни одного дерева, а животные разнообразны: встречаются дикие ослы и большие страусы. Попадаются также драхвы и газели. Всадники нередко гоняются за этими животными. Ослы, когда их преследуют, убегают вперед и останавливаются, так как бегают гораздо быстрее лошадей. Когда лошади приближаются, они опять проделывают то же самое, и нет никакой возможности их настигнуть, разве только в том случае, если всадники становятся в разных местах и охотятся поочередно. Мясо пойманных ослов похоже на мясо оленей, но нежнее. Никто не поймал ни одного страуса, а те всадники, которые пускаются за ними в погоню, быстро прекращают ее. Убегая, страус отрывается далеко вперед, пользуясь во время бега и ногами, и крыльями, поднятыми как паруса.
Закроешь книжку, пытаешься уснуть, а в голове опять вопрос-ответ, вопрос-ответ. Опять про каких-то переодетых милиционеров, которые норовят взломать дверь, ворваться в квартиру, перевернуть все вверх дном, отбить почки, сломать руку или ребро. А Петер им вопрос: в детстве вы плавали с родителями по Черному морю на лайнере «Россия» и в самых неожиданных местах, например на вентиляторах над головой, замечали вдруг выпуклые готические буквы “Adolf Hitler”? Ответ: да, было. Вопрос: ваш сын, когда пришли гости, от скуки залез под стол и стал снимать со всех тапочки, и ноги вслепую шарили по паркету? Ответ: да, было. Вопрос: вашей маме, когда ее хоронили, на лоб положили полоску бумаги с молитвой, и вы вдруг подумали: кто же и когда будет это читать? Ответ: да, было. Вопрос: в Перми есть речка Стикс? За ночь замерзшая? Вы бросили палку, а она подпрыгивает на льду, и лед звенит гулко, пусто, легко? Ответ: да, было. Вопрос: а куда плыла по ночам та девушка, одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху, и так хотелось эту ладонь поцеловать, но боялся разбудить?
А под утро толмач проснулся весь в поту и с бьющимся сердцем: приснилась Гальпетра, и все снова – урок, доска, будто не было всех этих прожитых десятилетий. Лежал, смотрел в светлеющий потолок, возвращался в себя, держась за сердце.
Сейчас-то чего ее бояться?
А что именно было во сне – сразу забываешь, остается только ощущение школьного страха.
И еще неприятно – никогда не знаешь, в какой империи проснешься и кем.
Толмач уже выключил компьютер, а тут опять включил, чтобы записать, как ворочался, не мог заснуть, и почему-то вспомнилось, как Галина Петровна водила нас на экскурсию в Останкино, в Музей творчества крепостных. Был еще сентябрь, но выпал первый снег, и Аполлон Бельведерский стоял посреди круглого заснеженного газона. Мы стали обстреливать его снежками. Все хотели попасть туда, где листик, но ни у кого не получалось, а потом Гальпетра на нас накричала, и мы пошли на экскурсию в музей. Помню эхо в холодных темных залах, увешанных почерневшими от времени картинами. По навощенному паркету плавали отражения окон, как льдины. Мы скользили, будто на катке, в огромных войлочных тапках, надетых прямо на ботинки, и наступали друг другу на пятки, чтобы идущий впереди упал. Гальпетра шикала на нас и раздавала подзатыльники. Как сейчас вижу ее с темными усиками по краям рта, в шерстяном фиолетовом костюмчике, на голове белая вязаная шапочка из мохера, зимние сапоги с полурасстегнутой молнией, чтобы ноги не очень прели, на сапогах музейные тапки, похожие на какие-то лапландские снегоступы. Из рассказов экскурсовода запомнилось, что если крепостные балерины в театре плохо танцевали, то их, задрав юбку, пороли на конюшне – наверно, запомнилось именно из-за этого: задрав юбку. И еще помню, как нам показывали гром: если по ходу действия нужно было изобразить грозу, то в огромную деревянную трубу сверху сыпали горох. Этот аттракцион входил в экскурсию, и некто невидимый сверху высыпал в трубу пачку гороха. Но главным образом та экскурсия запомнилась тем, как кто-то мне шепнул, что наша Гальпетра – беременна. Это настолько показалось мне тогда невозможным, непредставимым, чтобы наша не имеющая возраста усатая классная могла забеременеть, ведь для этого нужно, чтобы произошло то, что происходит между мужчиной и женщиной – женщиной, а не нашей Гальпетрой! Я вглядывался в живот старой девы, истово боровшейся в школе с тушью для ресниц и тенями для век, и ничего не замечал – Гальпетра была такая же толстая, как всегда. Я не хотел, никак не мог в это поверить, ведь непорочного зачатия не бывает, но меня убедили слова: «Уже вся школа знает, что она идет в декрет». И вот мы стояли и слушали, как горох превращается в раскаты далекого грома, в Гальпетре что-то необъяснимо росло, а в окне за снегопадом было видно здание Останкинского телецентра, и по снегу шел к нему Аполлон Бельведерский, не оставляя после себя следов.
Толмачу этим тунгусским утром выпадает проснуться толмачом в однокомнатной квартирке напротив кладбища. Может, потому здесь и недорого снять жилье. Зелень как зелень. Подробна, шипуча, перната. А радио с утра везде, а не только в соседней квартире, сообщает бодрым голосом об убийствах и ограблениях, происшедших за ночь. Крематорий сразу и не заметишь, вроде как чья-то вилла на склоне горы. И никогда не дымит, хотя там работают, как здесь повсеместно принято, не покладая рук. Все дело в фильтрах. В трубе установлены фильтры, чтобы не пачкать дождь.
Про белку, пробегающую по ограде, я уже писал.
Соседей долгое время не было видно. Лишь их белье. Стирают в подвале, там несколько стиральных машин. Машины почти всегда заняты, а на веревках в комнатах-сушилках ждут своих тел застиранные носки, заштопанные старческие чулки, довоенные трусы.
До какой войны?
Что-то показалось толмачу в этом доме странным, когда он приехал сюда год, нет, уже полтора года назад. И он не сразу понял, что же не так с этим огромным зданием, в котором всегда тихо. Только обратил внимание, что никогда не слышно детских голосов. А потом заметил, что здесь лишь однокомнатные квартиры и в них живут старые люди. Они казались ходячими застиранными чулками и носками.
Толмачу досталась квартирка на первом этаже, с выходом на газон, на котором всегда что-нибудь валяется. Вот сейчас трава шевелится от капель и прямо под окном мокнет тюбик от зубной пасты “Colgate”.
Соседей слева и справа не видно, но слышно. Тот, который слева, пересвистывается с брелком от ключей. Тот, который справа, говорлив. Курлыкает сам с собой по-птичьи. Ходит по ночам зимой и летом в кальсонах и майке. Однажды толмач возвращался очень поздно, часа в два ночи, а сосед подметал дорожку.
Зубная паста – с седьмого этажа. В первые же дни после переезда стали падать сверху на газон перед самым окном разные предметы – и вовсе не мусор. Один раз упал телефон, потом комплекты постельного белья, потом радиоприемник, какие-то продукты, поварешки, открывалки, канцелярские мелочи, разные блокнотики, коробки со скрепками, конверты. Не каждый день. Иногда неделю ничего не летит, потом глядь – ножницы. Толмач все это собирал в черные полиэтиленовые мешки для мусора, а всякие полезные вещицы, чего уж там, просто прикарманивал – что с неба упало, то пропало. Вот в ящике стола лежат небесные карандаши, клей, те самые ножницы. И толмач никак не мог понять, кто все это бросает и зачем. А в один ветреный день газон покрылся белыми упавшими листьями, будто какому-то бумажному дереву пришла осень. Оказалось, бюллетени для голосования. У нас ведь тут что ни праздник фонарей, то референдум. И вот на этих бумагах были указаны адрес и фамилия. Куда: лучший из миров, кому: фрау Эггли. Толмач сходил посмотреть на таблички с фамилиями жильцов, и все совпало – фрау Эггли живет прямо над ним на седьмом этаже. Он поднялся и позвонил ей в дверь. Мало ли, может, просто сквозняк и у нее все бумаги сдуло с подоконника. Просто хотел вернуть. Никто долго не открывал. Толмач хотел уже уходить, когда за дверью послышалось шарканье. Наконец дверь приоткрылась. Сначала в нос ударил запах, а потом в темноте толмач разглядел восьмисотлетнюю старуху. Даже удивился, как от такого ссохшегося существа может быть столько запаха. Извинился и стал объяснять про бюллетени, что вот, мол, у нее упало, а он принес. Она молчала. Он спросил, еще раз посмотрев на табличку у звонка: “Sie sind ja Frau Eggli, oder?”[3 - Вы ведь госпожа Эггли? (нем.)] Она прошамкала: “Nein, das bin i n?d!”[4 - Нет, это не я! (швейц. – нем.)] – и захлопнула дверь. Нет так нет – может, ее подменили во младенчестве. И снова время от времени сверху что-то падает.
А до этого толмач жил в другом доме, и не один, а с женой и сыном. И вот так получилось, что теперь его жена стала женой другого. Так бывает и в нашей империи, и во всех других. Ничего особенного.
По телефону толмач каждый раз спрашивает сына:
– Как дела?
И тот всегда отвечает:
– Хорошо.
На Рождество, когда толмач позвонил узнать, понравился ли посланный в подарок набор юного фокусника, – сын сказал:
– Всем дарит подарки только один папа, а я получаю подарки от двух! Правда, здорово?
– Правда, – ответил толмач.
И еще сын иногда присылает забавные письма с вложенными картинками. Однажды придумал свою страну и нарисовал карту.
Толмач прикрепил эту карту кнопками к стене.
Вопрос: Итак, вы утверждаете, что ищете убежища для вашей намаявшейся, израненной души, уставшей от унижений и мытарств, от хамства и нищеты, от подонков и дураков, и что вам угрожает всюду подстерегающая опасность стать игрушкой и жертвой зла, как будто на вашем роду, да и на всех остальных, лежит неизбывное проклятие, и как страдали ваши бабушки и дедушки, так страдает и нынешнее поколение, и так будут страдать еще не рожденные до седьмого колена, а при случае и дальше. В качестве вещественных доказательств вы предъявили пробитый щипцами невыспавшегося контролера билет от Романсхорна до Кройцлингена, листок из школьной тетрадки с какими-то каля-маля и сношенное до дыр тело. Однако все по порядку. Вы зарабатывали на хлеб насущный – ведь у вас семья да еще старая мать на шее и сестра, так и не вышедшая замуж, – служа телохранителем у одного успешливого журналиста, умнички и злыдня, ведущего телешоу, убогого, но обожаемого смертными, ибо приносило в их хижины и дворцы надежду и крупицы света. К названному журналисту попали Бог весть откуда материалы об источнике зла. Все дело было в игле. Игла была спрятана в яйце, яйцо в селезне, селезень в зайце, заяц еще в ком-то, а все это в свою очередь запихнуто в дипломат. И вот в прямом эфире бесстрашный журналист собирался публично достать содержимое и, обломав кончик иглы, уничтожить зло. Сильные мира сего (зло ведь всегда думает, что это оно добро, а добро, наоборот, зло), понятное дело, не дремали. Получая анонимные угрозы, смельчак при всех читал их вслух и тут же рвал на мелкие кусочки, демонстрируя невидимым, но вездесущим врагам свое презрение. И вот однажды под мокрым снегопадом вы попрощались с ним до завтра, он сел в машину, зачехленную снегом, со своей новой женой – со старой развелся за полгода до этой жидкой кашки на ветровом стекле, разгребаемой дворниками, – и вы еще подумали, что видите его в последний раз. Впрочем, мысли ваши никогда никого в этой жизни не интересовали. Они сидели, включив в машине печку, и, пока воздух в салоне нагревался, хотели жить долго и счастливо и умереть в один день и в одну минуту. Она говорила: «Черт с ней, с правдой, не надо никакой правды, Славик, любимый мой, мне страшно за тебя и за себя. Пожалуйста, очень тебя прошу, не надо ничего!» Только он хотел ответить – машина взорвалась. Следствие стало разрабатывать версию ошибки: взрывное устройство просто подложили не в тот автомобиль, и оперативники изучали данные на владельцев всех белых от снега «БМВ», оставлявших в тот слякотный вечер свои автомашины возле Останкинского телецентра, где на стоянке под каждым фонарем выросли живые пирамиды из снежных хлопьев. Искали также дипломат с правдой, но не нашли. Бывшая супруга погибшего, оскорбленная и растоптанная в своем женском естестве, еще когда он был жив, пыталась вытеснить предавшего их любовь из своего подсознания и время от времени звонила ему и молчала – о, как похожи все одинокие брошенные женщины, глушащие ярость сопением в телефонную трубку! Боясь сойти с ума, она пошла к психотерапевту и прорыдала два часа – ведь они прожили вместе столько лет. Выждав положенное, психотерапевт, у которого был стеклянный глаз – он часто прикрывал его рукой, – предложил ей представить прошлую счастливую жизнь как просмотренный видеофильм и сказал, что нужно расслабиться, закрыть глаза, еще разок пересмотреть пленку в ускоренном режиме, чтобы все смешно семенили, целовались, будто клевали друг друга носами, и занимались любовью с резвостью хомячков, затем вынуть кассету из магнитофона и выбросить ее в мусоропровод. «У нас в доме нет мусоропровода», – ответила женщина. Наконец, узнав о случившемся, она снова наревелась, но совсем по-другому – теперь она могла разрешить себе думать о том, что любит его, вспоминать хорошее и наслаждаться этими воспоминаниями. Теперь это были благодатные слезы, омывающие душу и приносящие облегчение. Ведь когда он был жив, она если и вспоминала его, то только в прошедшем времени – будто он умер, и вот теперь это случилось, он умер по-настоящему, и притворяться больше не надо. Однажды, возвратясь в пустую квартиру, она почувствовала, что в комнате кто-то без нее был. Все вещи оставались на своих местах, но ее охватило какое-то странное жгучее ощущение. Ноги ныли от усталости, она прилегла и вдруг почувствовала запах на подушке – запах его одеколона. Значит, он приходил. Это и понятно – душа погибшего от рук убийц мужчины не хочет покинуть этот мир, ибо в нем осталась любящая его женщина, и она нуждается в его защите. Ведь так хочется верить, что близкие нам люди, покинувшие эту жизнь, не навсегда потеряны нами, что они где-то рядом и в трудный момент смогут прийти на помощь. Много уже написано об условности смерти, когда вдруг выясняется, что убитый жив – и все убитые и умершие тоже. Ведь корни травы живут себе и не знают, что кто-то уже ее сжевал. В другой раз, придя домой, она увидела на полуослепшем бабкином зеркале, покрытом старческими пятнами, размашистую надпись красной губной помадой, сделанную его рукой. Погибший сообщал, что его убийца – вы. Это, в общем-то, и понятно: чем торгуем, то и воруем. Неудивительно, что убийство заказали именно охраннику. Всем ясно, что так проще и надежнее. А вы оказались между молотом и наковальней. И согласиться трудно, и отказаться нелегко. Как ни крути, а вы – крайний. Разумеется, мертвые тоже могут ошибаться, но сами понимаете. И вот следствие принимает новый оборот, и в убийстве журналиста обвиняют вас. Вам приходится скрываться. Сюжет набирает динамику, теперь, чтобы оправдаться, вам нужно найти настоящего убийцу, а еще лучше – ту самую исчезнувшую правду. Прямо детектив какой-то получается. Тем временем бывшая супруга убитого отправилась на прием к ясновидящей, от той только что вышла женщина, просившая снять порчу с семьи – у нее за один год скоропостижно умер муж, погибли в автокатастрофе дочь с зятем и внучкой, тяжело с рождения болен внук, оставшийся сиротой, и еще пожар в квартире. В комнате провидицы пахло курившейся смолкой, а за окном в старом дереве под корой прятались проеденные жучком письмена, в которых он описал свою жучью жизнь и которые никогда никем не будут прочитаны. Получив условленный гонорар в конверте и пересчитав деньги, ясновидящая на вопрос, как связаться с мужем, которого нет, но он есть, дала адрес чата в Интернете, по которому он придет к ней онлайн с появлением первой звезды. В чате в назначенное время был единственный посетитель. Он. Ее интересовало лишь одно, и она все время выстукивала указательным пальцем: «Любимый мой, почему ты меня бросил?» Он отвечал ей про какой-то шифр от ящика в камере хранения на Белорусском вокзале, а она снова и снова: «Я только хочу понять – за что?» Однако оставим их наедине и посмотрим, а что же происходило в это время с вами. Вернуться домой, где наверняка уже поджидала засада, вы не могли. Вы боялись, что они могут что-то сделать вашей жене и сыну, хотя ребенок не от вас и уже вырос, но для любви и развития сюжета это не имеет никакого значения, так вот, вы поехали к армейскому другу, не доигравшему в детстве в солдатики и собиравшему оловянную панораму битвы при Ватерлоо. Армейская дружба, решили вы, святое. Люди, которые были вместе и достаточно близки, встречаясь через много лет, ищут ту ушедшую близость, хотя стали уже совсем другими, это можно сравнить с водой, которая была в вазе, а потом стала паром или дождем. Вы рассказывали, а друг курил, и струйки дыма из ноздрей били в тарелку с макаронами. Он понял, что дело безвыигрышное, что ему, может быть, придется погибнуть, помогая вам, но именно это и раззадорило. Достоевский, кажется, сказал, что жертва жизнью есть, быть может, легчайшая из всех жертв. На следующий день ваш друг, надев тельняшку, отправился к бывшей жене журналиста, чтобы выйти через нее на контакт с духом умершего и выведать тайну пропавшего дипломата. Услышав выстрелы, работники прачечной напротив вызвали милицию, и дежурный наряд, застрявший в пробке и потому приехавший, лишь когда час пик кончился, задержал благородного смельчака, незаметно подсунув ему в карман во время отчаянной схватки серебряные ложки, хоть он и пытался оправдаться, что уже нашел в комнате на кровати труп женщины, нюхавшей подушку и убитой выстрелом в сердце. Он бросился к ней для того, чтобы посмотреть, можно ли привести ее в сознание, – так ее кровь оказалась на нем. Затем он извлек пистолет из ее руки, вложенный туда кем-то так, чтобы это выглядело как самоубийство, и пистолет сделал контрольный выстрел в ногу, так как был снят с предохранителя, а ваш друг не умел пользоваться оружием. Таким образом объясняются на нем ее кровь, частички пороха и отпечатки пальцев на пистолете. Но это неважно, а важно, что верный товарищ успел прочитать на экране невыключенного компьютера и сообщить вам по телефону перед арестом шифр и номер камеры хранения на вокзале, где вы и взяли злополучный дипломат. Арест ни в чем не повинного, попавшего в беду из-за вас, придает действию хоть в некоторой степени напряжение и драматизм. Теперь вы шли по улице со злом в чемоданчике и думали, что делать. Все оборачивались на стекольный перезвон и скрежет – это старуха тащила по асфальту санки с детской ванночкой, набитой пустыми бутылками. В скверике молодые мамы с колясками обсуждали, как лучше отучить от груди, одна рассказывала, что ее мать, когда кормила младшего, намазала сосок горчицей, и сын, уже начавший говорить, скорчившись, сказал: «Сися – кака!» Если ребенок долго сосет грудь, поздно научится говорить, будет плохо разговаривать. Пенсионер, смотревший на них в окно, пошел на кухню, оторвал листок календаря и вздохнул: завтра Пушкина убьют. К полудню снег сделался рассыпчатым, губчатым, сугробы были объедены как саранчой, а под бузиной подтаявший наст прыщав. У входа в ресторан чуть приплясывал негр в ливрее, радуясь солнцу и сверкая золотыми пуговицами, наверно, приехал сюда когда-то учиться. В детском саду нянечка, когда дети уселись на горшки, открыла окно, чтобы увеличить простуду и уменьшить посещаемость. В окне кондитерской покосилась реклама: «Вчера ты слизь, а завтра зола». В зоопарке резвились львята, выкормленные собакой. В парикмахерской икала после обеда парикмахерша, думая о том, как вечером будет снова учиться играть на гитаре – она подкладывала под струны поролон, чтобы беззвучно отрабатывать аккорды. Напротив, в художественном училище, натурщик позировал с носком, надетым на фаллос, у него не было специального мешочка с тесемками. Крест на макушке церкви был привязан цепями, чтобы не улетел. Служба уже закончилась, женщины в платках, отгородив проход к алтарю натянутой веревкой, мыли затоптанный пол, ворчали. Нищий на паперти знал, что лысым подают плохо, поэтому всегда был в шапке. В интернате для детей-инвалидов воспитательница перетряхивала в спальне у девочек матрасы, копалась в постелях, рылась в тумбочках в поисках запрещенной туши для ресниц, а заветная коробочка, обвязанная ниткой, висела за окном. На рынке в аквариумах для рыбок продавали малосольные огурцы. Небритый кавказец протирал яблоки грязной тряпкой. В школе проходили Гоголя. Молодой учитель объяснял, что побег носа – это побег от смерти, а его возвращение есть возврат к естественному порядку жизни и умирания. Влюбленные ехали в автобусе зачать себе ребенка, прижимались друг к другу в толкучке и вместе со всеми пассажирами приплясывали на задней площадке – потом, дома, она, замерев с пахучей кофемолкой в руках, подумала: «Господи, как просто быть счастливой!» – а он открывал банку сардин, наматывая крышку на ключ, будто заводил этот мир, как часы. А еще кто-то должен был разгружать говяжьи туши, вздернутые на крюки и искрящиеся инеем в вагоне-рефрижераторе, где стоит морозный туман и вокруг лампочки мерцает мглистая светящаяся баранка. И никто в городе больше не знал тайну кавалергардских белых лосин, плотно облегающих ноги, – их надо было надевать мокрыми и высушивать на голом теле. Отчаявшись, вы отправились к известному филантропу и правозащитнику, назовем его, допустим, Ветер, записались на прием и сидели в прихожей, барабаня пальцами по искусственной коже чемоданчика. Ветер – один на всем белом свете, кто мог вам помочь обнародовать правду и наказать торжествующее за окном зло. Кто-то ведь должен был в прямом эфире прилюдно обломать злу кончик! Наверно, так думали многие, потому что приемная была полна какими-то беженцами из Средней Азии в рваных выцветших халатах. Это был старый особняк, на который давно уже зарился один нефтяной банк. Потолки были украшены античной лепниной, и никого уже не удивляло, что Аполлон, бог искусств, убивал одного за другим всех детей Ниобеи, а потом превратил ее саму в камень – и страдания матери были таким образом окончены. Но ждали вы напрасно – Ветер таинственно исчез из своего кабинета, а тело его нашли в соседнем саду вздернутым на сук – вот она, излюбленная всеми тайна закрытой комнаты. И пусть исходила пресса в бессильных догадках о мистике и неведомых потусторонних силах, все оказалось просто: три бомжа, три бывших танкиста, оскорбленных за унижение державы, решили отомстить либералам. Их запомнили по особым приметам: зубы-гнилушки светились в темноте. Еще они любили вспоминать, как в начале 38-го на Ленинград обрушились груды бананов. А один из них сказал: если знать, что смерти нет, что ты не умираешь, а просто «переходишь» в какую-то другую жизнь, то есть что умираешь как бы не всерьез, понарошку, то все это недостойно – умирать надо с достоинством, по-мужски, всерьез, зная, что смерть есть. А произошло вот что. Один выстрелил, проходя по улице, из старого дуэльного пистолета, заметив, что Ветер как раз стоял у открытого окна и думал отчего-то о тургеневских сапогах, виденных им много лет назад в музее. Сапоги стояли за витриной ссохшиеся, мертвые, и не верилось, что они когда-то были живы, пахли ногой и кожей и после охоты в них насыпали овес, чтобы вытянуть сырость, выносили проветривать, а потом обмазывали дегтем. На выстрел Ветер выглянул на улицу, второй бомж-танкист из окна верхнего этажа накинул на него петлю и вздернул старика наверх, а затем скинул в другое окно, выходившее в сад, пропитанный спелым вечерним светом и подписанный, как приговор, стрижиным росчерком, где третий из соучастников повесил тело Ветра на сук. Быстро стемнело. Вы отправились на электричке в Подлипки, где жила ваша старенькая мама и сестра, учительница, преподававшая литературу. На вокзале через громкоговорители без конца объявляли, что жизнь – это натянутый лук, а смерть – это полет пущенной стрелы. В электричке, натопленной, надышанной, пропотевшей, вы прижимали к себе дипломат и представляли себе, как мама и сестра сейчас сидят за столом, пьют чай, едят блинчики с творогом и смотрят новости – как раз показывали, как автобус с заложниками в Назрани взлетел на воздух, и человеческие куски парили, искусно снятые рапидом, словно комья красного снега. Вся электричка читала детективы. Это и понятно. В детективе предполагается, что до того, как совершено преступление, до появления первого трупа, в мире существует некая изначальная гармония. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавливает миропорядок. Это древняя функция культурного героя. Ему сумерки по колено. И к тому же ясно, где добро и где зло, потому что добро всегда побеждает и нельзя ошибиться: если победило – значит, добро. Да и вообще читают, потому что страшно пропищать жизнь, как комар, – где-то во тьме, невидимо и неслышимо. Детектив – это тот же ужас, как в газетах, только с той разницей, что заканчивается хорошо. Просто не может кончиться как-то иначе. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. Как в сказке: зверь из преисподней захватил остров и правит людьми, недорисованными, непрописанными. Отгрызает головы. Они боятся, но живут. Жить-то как-то надо. И вот появляется герой, распираемый отвагой и восточной мудростью, и дает зверю сапогом по яйцам. А газеты лучше вовсе не открывать – не новости, а сводка особо опасных преступлений, леденящих душу и дующих на флюгер общественного мнения: по последним опросам, опять все требуют введения, во-первых, публичной смертной казни за изнасилование их дочерей и сыновей и, во-вторых, шариата, чтобы ворам рубили руку – в следующий раз захочет что-нибудь украсть, хвать – а нечем. Рядом с вами сидела некрасивая девушка, с волосами, растущими везде, где не нужно, умирающая по ночам от безлюбья, и читала про иудейскую секту саддукеев. Вы, скосив глаза, пробежали по строчкам, в которых говорилось: саддукеи утверждали, что в будущем не будет ни вечного блаженства для праведных, ни вечных мучений для нечестивых людей, отрицали бытие ангелов и злых духов, а также будущее воскресение мертвых. «Так ведь это мы саддукеи и есть», – вздохнули вы. Электричка уже подъезжала к Подлипкам. За окном на насыпи промелькнула половина собаки, привязанной мальчишками к рельсам. От станции можно подъехать на автобусе, но вы решили пройтись пешком, подышать. Подходя к пятиэтажке, вы поздоровались с бабушками на скамейке и подумали: вот вас убьют, а они, как положено, будут обсуждать похоронные подробности, какой был гроб и громко ли плакала вдова. Вошли в подъезд и, вместо того чтобы, как обычно, пробежать лестницу быстрее, чтобы не вдыхать запахи из углов, осторожно, прислушиваясь, вглядываясь в темноту и хрустя пустыми шприцами, стали медленно подниматься по лестнице. И замерли. Наверху, на следующем пролете, кто-то стоял и тихо переговаривался, а когда вы остановились, разговор оборвался. Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами, и тут началось описание природы. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумном, весело распевали ранние птички. В запруде по отражениям облаков бегали небомерки. Осина, убитая грозой, грифельна. Вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца, стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз забронзовел. Ветер зачесал ель на пробор. Лес, по Данту, – это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши заложены верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать названия небу, хотя и там, как в океанах, есть свои проливы и моря, впадины и отмели. Лязг затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о своей собаке с человеческими глазами. Она понимала хозяина с полуслова. Ему казалось, что она человек, только в шкуре и с лапами. Но когда у нее родились щенки, с ней что-то произошло. Один раз он пришел домой и увидел, что она отгрызла своим детям головы. Что-то вывихнулось в природе, такого не могло быть, такого не должно было быть. Он вынужден был ее пристрелить. «Обошлось», – вздохнули с облегчением вы и поднялись наверх. Открыли дверь своим ключом и отступили перед открывшимся зрелищем, охваченные ужасом и изумлением. Как позднее было установлено следствием, начиная с трех утра мирный сон обывателей квартала нарушался душераздирающими криками, но, напуганные временем, лихим, разбойничьим, соседи затаились. В квартире все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу найдены были четыре наполеондора, одна серьга с топазом и два мешочка со старыми юбилейными рублями, которые здесь все автоматы принимают за пятифранковую монету с Вильгельмом Теллем. У окна разбитая трехлитровая банка с грибом – подсох, скукожился. И никаких следов вашей сестры и матери! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и – о ужас! – вытащили за голову труп сестры: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана – явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. Причем самое интересное, что вашу сестру обнаружили в комнате, запертой изнутри, задвинуты были и шпингалеты на окнах. Опять тайна закрытой комнаты! Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, во двор, где чуть тлела помойка, распространяющая в оттепель зловоние, и там наткнулись на мертвую старуху – ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Везде в комнате были оставлены следы: недоеденные остатки блинчиков с творогом, которые попробовали убийцы, а значит, оставили слюну, окурки с губной помадой, в пепельнице сгоревшая спичка с обугленным хвостиком, стаканы с отпечатками пальцев, следы правого ботинка сорок пятого размера, что заставляло думать об одноногости злодеев, но следственная группа не нашла никаких улик и зацепок, и в пресс-бюллетене, зачитанном на брифинге, утверждалось, что убийца – гигантский свирепый орангутанг, который вылез в окно, захлопнувшееся само собой, когда зверь убегал. Опускаю в целях краткости, ведь скоро обед, в животе уже урчит, а мы еще только в самом начале, потому и описание убийств людей, о которых мы ничего толком не знаем, не вызывает ни особого горя, ни гнева, ни жгучего протеста, все мы, выпучив глазки, ляжем на салазки, опускаю, повторяю, остальные злоключения чемоданчика, зашифрованное письмо, близнецов, похожих как две капли воды, потайные ходы, разбитое снаружи окно – если осколки внутри, и разбитое изнутри, если околки снаружи, и, хотя вовремя не залаявший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком, перехожу к вашим заключительным показаниям, к финальной погоне, в которой слабовато закрученный сюжет достигает апогея. Вы бежите с дипломатом, из-за которого весь сыр-бор, по полю, розовая гречиха, голубой лен, но тут вы запутались и потом внесли поправки в протокол, якобы вспомнили пыльную дорогу через клубничное поле – после жаркого дня остро пахло ягодами. За вами смертельная погоня – с одной стороны, правоохранительные органы, с другой – мафия, что, как вы понимаете, одно и то же, и вот перед вами река, полная сверху отражениями, а внутри временем, налита им до краев. Коряга вошла в воду по пояс и ловит капустницу на выставленный локоть. За кустами мальчишка удит рыбу. Забрасывает крючок, гибким концом длинной удочки вспоров воздух. Наживка чмокает реку, по времени бегут круги. На них запрыгал шарик от пинг-понга, подплывающий степенно, неторопливо. Слышно, как где-то вниз по течению рычит волк, блеет коза, доносится скрип уключины. У берега комариные заросли. Паук ловит в свои сети холодок, заготавливает к осени. Тронул его пальцем, тот полез по паутине на небо. Над рекой замерли величавые облака, а тут же с капустного поля дачники тащат кочаны мешками, с молоком матери впитав: не пойман – не вор. Кто-то приспособил в заборе крышку от рояля. В ее тени свернулся шланг, тяжелый, в нем вода. Парочка на песке на другом берегу – издалека не поймешь, что там – поцелуй или искусственное дыхание, но раздумывать некогда, позади спецназ, уже слышно, как они кричат: «Господь знает, куда ведет нас, а мы узнаем в конце пути!» И еще скандируют лужеными глотками: «Страшно ведь не то, что жизнь кончится, а то, что она может больше никогда снова не начаться!» Вы сняли ботинки, чтобы было легче плыть, опустили в черную воду ногу, она сразу ушла по колено. Под ступней скользко поползли стебли, побежали, залопались пузыри, запахло гнилью. Вы опустили вторую ногу – на кругах закачался, запрыгал белый шарик, как раз доплыв до вас. Вы бросились вплавь, но берег, казавшийся всего в паре взмахов, будто стал играть с вами в догонялки. Вы плыли долго, а он был все в той же паре взмахов. Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходилось одной рукой, и дипломат утягивал вас на дно. Барахтаясь, вы хлебнули воды, и над головой сомкнулся водяной потолок. Открыли глаза – желтая стена с веточкой водорослей и круг солнца сквозь лучистую муть. Вы боролись, пока вдруг не почувствовали невероятную легкость. Стало беззаботно, восхитительно. Вдруг пронеслось в голове: «Зачем же я боролся, если это так легко и чудесно!» Вас спас капитан Немо на своем «Наутилусе» и высадил на берег уже в Романсхорне. Там вы купили вот этот билет и сели на поезд до Кройцлингена. Устроившись у окна так, чтобы был вид на Боденское озеро, стали смотреть, сколько денег в бумажнике, и наткнулись на рисунок вашего сына, вот эта самая каля-маля, которую он нарисовал вам на день рождения, и с тех пор вы носите этот клочок с собой, а в окне тянулись голые деревья, наклоненные вправо, как буквы, написанные женским почерком, и вы поняли, что это вам ваша жена написала письмо, что любит вас и ждет. Вы заснули, а потом уже надо было выходить, вы выскочили на платформу и спохватились, что забыли дипломат, а также все документы, удостоверяющие вашу личность, но было уже поздно, поезд ушел. Все так?
Ответ: Да. Кажется, так. Не знаю. Может, я что-то и напутал. Вы извините меня, я волнуюсь.
Вопрос: Да вы успокойтесь. Все уже позади. Хотите воды? Я понимаю, вам сейчас трудно.
Ответ: Спасибо! Честное слово, я старался рассказать все, как было, а видите, что получилось.
Вопрос: Ничего страшного. Каждый рассказывает, как может.