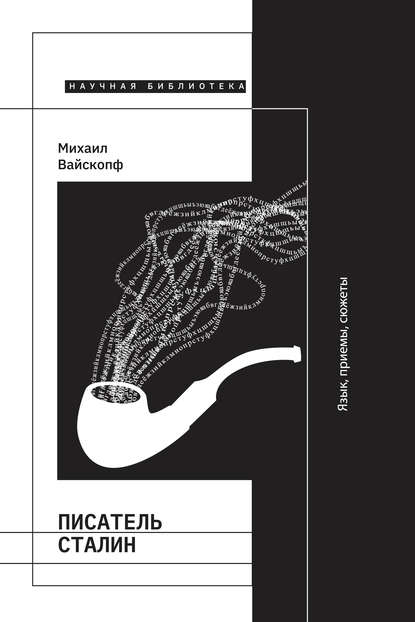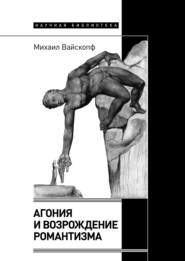По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С тех пор понятие «в целом», посредством pars pro toto, становится у него сущностным, органическим свойством партии или, что то же самое, ее руководства, вбирающего в себя дух рядовой массы. Напомню хотя бы неуклюжую фразу насчет фракции как «группы членов партии», которые в засаде «поджидают центральные учреждения партии», чтобы «стукнуть партию по голове». Коварно атакованные учреждения («голова») автоматически отождествляются со всей партией. Но где находится нападающая на нее группа партийцев – внутри, т. е. в самой партии, или все-таки уже снаружи? Очевидно, верно второе.
В таком же двусмысленном освещении подается опальная группа и по отношению к партийному «большинству», статус которого примечательно эволюционирует на протяжении небольшого фрагмента из сталинской речи на XIV съезде, долженствовавшей продемонстрировать гуманность генсека:
Позвольте теперь перейти к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального Комитета <…> Ленинградский губком вынес постановление об исключении Троцкого. Мы, т. е. большинство ЦК, не согласились с этим, имели некоторую борьбу с ленинградцами [т. е. с Зиновьевым] и убедили их выбросить из своей резолюции пункт об исключении. Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленум ЦК и ленинградцы вместе с Каменевым потребовали немедленного исключения Троцкого из Политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции, получили большинство, ограничились снятием Троцкого с поста наркомвоенмора. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что метод отсечения, метод пускания крови – а они требовали крови – опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого – что же у нас останется в партии?
Сперва борьба развертывается тут внутри того самого («нашего») большинства, в которое входили тогда вместе со Сталиным жестокосердые ленинградцы и Каменев. Затем «мы» – это и есть «большинство ЦК», только уже без зиновьевцев – большинство, получившее доминантный статус: «мы… ограничились… мы не согласились»; зато кровожадные Зиновьев и Каменев теперь ретроспективно переосмысляются в качестве тогдашней оппозиции, а вовсе не части правоверного большинства. И наконец, «мы» исподволь отождествлено со всей «партией» («у нас… в партии»).
Приведу другой, довольно изощренный образец перестановки, поэтапно осуществляемой в объеме небольшого абзаца. В 1928 году Сталин вспоминает о том, как Ленин некогда строго наказал проштрафившихся функционеров:
Прав ли был Ленин, поступая так? Я думаю, что он был совершенно прав. В ЦК тогда положение было не такое, как теперь. Половина ЦК шла тогда за Троцким, а в самом ЦК не было устойчивого положения. Ныне ЦК поступает несравненно более мягко. Почему? Может быть, мы хотим быть добрее Ленина? Нет, не в этом дело. Дело в том, что положение ЦК теперь более устойчиво, чем тогда, и ЦК имеет теперь возможность поступать более мягко.
Рассмотрим графически выделенные фрагменты. Как и в предыдущем случае, сперва речь велась о прежнем положении «в ЦК», то есть внутри достаточно разнородной группы, половина которой «шла за Троцким». Затем – уже о положении ЦК как абсолютно целостного образования, выступающего поэтому в качестве коллективной личности, заменившей своего вождя. (В те годы для Сталина уже характерны такие выражения, как «ЦК РКП(б) <…> стал бы хохотать до упаду» и другие, не менее красочные формы персонификации.) Что касается Ленина, то, будучи символом партии и верховным арбитром, он в тот ранний период, согласно этому описанию, пребывал словно за пределами еще рыхлого и неоформленного ЦК, управляя им со стороны. Иначе говоря, обособленность может трактоваться и позитивно – но только тогда, когда она обозначает самую суть, субстанцию большевизма (в дальнейшем мы не раз будем иметь дело с этой чисто метафизической константой сталинского мышления). Во всех остальных случаях выделенность равнозначна роковому отпадению от партии – вернее, от правящей сталинской группы в ЦК. Отсюда и антитезы:
Большевики говорили… Правые уклонисты упорно отмежевывались от большевистского прогноза. (Т. е. правые уклонисты – это уже не большевики.)
Партия отвечает… Оппозиция же говорит…
И наконец:
Вопрос стоит так: либо партия, либо оппозиция.
Дихотомия, как мы только что видели, может развертываться и посредством тонких грамматических сдвигов, за счет меняющегося соотношения личных местоимений «мы», «вы» и «они». Утрированно марксистское, массовидное «мы» Сталин употребляет при любой оказии. Даже хрестоматийное «Платон мне друг, но истина дороже» он, на богдановско-богостроительный манер, переключает в коллективистский регистр:
В старину говорили про философа Платона: Платона мы любим, но истину – еще больше. То же самое можно было бы сказать и о Бухарине: Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн любим мы еще больше.
Получается, что Бухарин, которого Ленин называет «лучшим теоретиком» и «любимцем партии», будто невзначай противопоставлен марксистской «истине» и этой самой «партии»[101 - Волкогонов совершенно убедительно усматривает в этом, как и во многих других замечаниях генсека, скрытую полемику с ленинской оценкой Бухарина: Указ. соч. Кн. I. Ч. 1. С. 14.Цит. по: Максименков Л. Сумбур вместо музыки. С. 194–195.].
Показателен отрывок из сталинского выступления на выпуске Академии Красной армии (1935):
Эти товарищи <…> рассчитывали запугать нас и заставить свернуть с ленинского пути. Эти люди, видно, забыли, что мы, большевики, – люди особого покроя. – и т. д.
Антитеза «мы – они», прослеживаемая еще к его ранним антименьшевистским выпадам в брошюре 1905 года («Они объявили партии бойкот <…> и стали грозить партии»), вообще принадлежит к числу наиболее употребительных сталинских ходов. Чаще всего «мы» – это «большевики», целостная партия, к которой понапрасну пытаются примазаться «они» – лидеры оппозиции, не понимающие «наших большевистских темпов»; «в старину у нас, большевиков, бывало так… Мы этого от вас [небольшевиков] не требуем», – а иногда, напротив, требуем:
Вы хотите знать, чего требует от вас партия, уважаемые оппозиционеры, – теперь вы знаете, чего она от вас требует.
Приведу также примечательный пример того, как зреет идея отторжения в самых на первый взгляд миролюбивых сталинских тирадах. В заключительной части своего доклада на XIV съезде Сталин сказал:
Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них – если они этого не захотят.
Добиться единства без Каменева и Зиновьева – это и значит их «отсечь».
Прием столкновения местоимений всегда содержит смертельную угрозу. В декабре достопамятного 1937 года Сталин получил от Л. Мехлиса (редактора «Правды») запрос относительно памфлета «Ад», сочиненного опальным Демьяном Бедным. Обнаружив там «критику советского строя», вождь поручил передать «новоявленному Данте»:
Так как у нас (у советских людей) литературного хлама и так не мало, то едва ли стоит умножать такого рода литературу еще одной басней, так сказать…
Спустя много лет, в 1952?м, антитеза звучит все так же зловеще:
Тт. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. Тем хуже для них. Ну, а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения…
Противопоставления могут иметь и не столь инквизиторский, но все же достаточно безрадостный характер. Вот Сталин обращается с речью к хозяйственникам, взявшим на себя повышенные обязательства:
Товарищи! <…> Слово большевика – серьезное слово. Большевики привыкли выполнять обещания, которые они дают <…> Но мы научены «горьким опытом». Мы знаем, что не всегда обещания выполняются.
В нарочито туманной схеме большевики гипотетически противопоставлены «вам», которым еще предстоит доказать свое право на звание коммуниста. Здесь «мы» – это те именно правоверные («серьезные», настоящие) большевики. Но в принципе дело гораздо сложнее. «Мы» может получать весьма эластичный, нефиксированный набор значений, включающих в себя все что угодно: и «они», и «вы», и, главное, «я».
Та же метода удобна для постановки национальных проблем. На роковом октябрьском пленуме 1952 года Сталин напустился на Молотова, приписав ему семейно-политическую связь с еврейством, желающим отторгнуть от СССР лакомую часть его территории (на самом деле речь шла о провокации, задолго до того готовившейся для уничтожения еврейства): «А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым»[102 - Сталин И. Соч. Т. 18. С. 585.] – т. е. евреи в этой формуле противопоставлены нам, Советскому Союзу.
Мы и я: между массой и личностью
Порой «мы» применяется для покаянных формул безлично-обобщенной «большевистской самокритики», нивелирующих индивидуальную провинность Сталина, – например, его ответственность за постыдно скромный масштаб репрессий: «Сама жизнь не раз сигнализировала нам о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым серьезным сигналом». Еще более серьезные сигналы поступали к 1937 году – но, увы, «мы» их тоже своевременно не распознали: «Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты». (Правда, «мы» в данном случае – это скорее «они», прочие партийцы, а не сам бдительный вождь».)
Зато сходные маневры со стороны своих политических противников Сталин незамедлительно пресекает:
Зиновьев говорил в этой цитате о том, что «мы ошиблись». Кто это мы? Никаких «мы» не было и не могло быть тогда. Ошибся, собственно, один Зиновьев.
К себе он относится куда снисходительнее. Правда, в 1920?е годы он изредка кается в своих персональных грехах, но, как отмечают биографы, в целом преобладает это его хорошо известное стремление растворить «ошибки» в необъятном лоне партии, свалить вину «на стрелочника»[103 - Иногда оба варианта – укрывание за спиной «мы» и перенос вины на низовых руководителей – у него совмещаются; ср.: «Мы виноваты в том, что целый ряд наших партийных руководителей оторвались от колхозов… Мы виноваты в том, что целый ряд наших товарищей все еще переоценивает колхозы».]. Единичные формулы индивидуального покаяния могут звучать следующим образом: «Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии»; «Как один из членов ЦК я также отвечаю, конечно, за эту неслыханную оплошность».
Однако и свое всевластие генсек обычно выдает за выражение партийного или всеобщего «мы». По замечанию Волкогонова, «уже в середине 30?х годов его указания оформлялись как постановления ЦК или циркулярные распоряжения»; а во время войны, занимая несколько должностей, Сталин подписывал документы «тоже по-разному: от имени ЦК, Ставки, ГКО или Наркомата обороны». Нередко на этих директивах, по его распоряжению, проставлялись подписи тех, кто тогда отсутствовал или просто не имел к тексту никакого касательства[104 - Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 108; Кн. 11. Ч. 1. С. 177, а также с. 205–206 и др.]. С другой стороны, не признавая за собой никаких ведомственных ограничений, он распространял свою власть – и свою личность – на все сферы деятельности. «Многие сторонние посетители, вызываемые в Кремль, – пишет Исаак Дойчер, – поражались тому, как во многих вопросах, больших и малых, военных, политических и дипломатических, Сталин лично принимал решения. По сути дела, он был сам себе главнокомандующим, министром обороны, квартирмейстером, министром снабжения, министром иностранных дел и даже chef du protocole»[105 - Deutcher I. Stalin: A Political Biography. Penguin Books, 1966. Р. 456.].
Все выглядело так, будто, прекрасно разбираясь именно в психологической ситуации – по крайней мере, в эмоционально-интуитивном основании любой личности, ее «нижнем этаже», – и строя на этом понимании свою высокоэффективную «кадровую политику», Сталин в то же время парадоксально не способен к осознанию собственно персонального начала, индивидуальной бытийности человека – и потому с такой неимоверной легкостью то смешивает его с социальной группой, то резко вычленяет из нее. И точно так же, несмотря на весь свой ревнивый и агрессивный нарциссизм, он без труда отрекается от собственного «я», обволакивая его бесцветным покровом коллектива. Эта двойственность сказывается и в быту: мы знаем о его угрюмой нелюдимости, болезненно проступившей, например, в годы Туруханской ссылки, – но в другие времена он умел контрастно сочетать мизантропическое затворничество и скотскую грубость с повышенной контактностью, умением очаровывать и привлекать к себе множество людей. По данным Волкогонова, он очень редко встречался с посетителями наедине – предпочитал находиться в обществе Молотова, Ворошилова и прочих «товарищей», обычно выполнявших, однако, работу немых статистов, роль коллективистского фона[106 - «Когда я приходил докладывать Сталину, – вспоминал Ковалев [бывший нарком путей сообщения], – у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Я еще про себя думал: мешают только. Вопросов никогда не задают. Сидят и слушают. Что-то записывают. А Сталин распоряжается, звонит, подписывает бумаги, вызывает Поскребышева, дает ему поручения… А они сидят. Сидят и смотрят то на Сталина, то на вошедшего… И так я эту картину заставал десятки раз… Видимо, Сталину нужно было это присутствие. То ли для выполнения возникающих поручений. То ли для истории…» (цит. по: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 187). Ср. там же: «Для него это был своеобразный „аппаратный антураж“, психологический допинг, к которому он привык, как к какому-то обряду, ритуалу выработки решений» (Кн. II. Ч. 2. С. 131).].
Мне кажется, Сталин – в некотором согласии с теорией «нарциссического расстройства», развернутой Кохутом[107 - Kohut H. The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychological Treatment of Narcissistic Personalities Disorders. New York, 1971. Возможность применения его теории к личности Сталина обсуждается в книге Д. Ранкур-Лаферриера. Указ. соч. С. 216–217.], – обладал каким-то гуттаперчевым чувством собственной индивидуальности: она то сжималась до эгоцентрической точки, то расширялась в безудержной экспансии, абсорбирующей любую общность. Если его «мы» зачастую предстает только ритуальной завесой для тиранического «я», то и последнее, в свою очередь, нередко подвергается деперсонализации. Более того, как ни странно это звучит, «я» далеко не сразу обретает свою, так сказать, собственно личностную адекватность в его ранних писаниях. Сама истина, вещая его анонимными устами, нерешительно застывает на полпути к персонификации. В одной из первых своих работ, «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904), Сталин напрямую отождествил себя с логикой и учением марксизма. Полемизируя с печатным органом грузинских федералистов «Сакартвело» и, как всегда, стараясь унизить противника, он снисходительно замечает:
Я готов даже оказать ему [«Сакартвело»] помощь в деле разъяснения нашей программы, но при условии, чтобы оно: 1) собственными устами признало свое невежество; 2) внимательно слушало меня и 3) было бы в ладу с логикой.
Единственное, что слегка подрывает эту величавую менторскую позицию, – тот факт, что свою заметку автор публикует без подписи (т. е. без всякого псевдонима). Кого же тогда слушать невежественным оппонентам? Сварливый призрак марксистской истины еще некоторое время продолжает блуждать в конспиративных туманах, не решаясь приоткрыть свой лик. В брошюре «Коротко о партийных разногласиях» (1905) Сталин вновь выступает с обширным набором наставлений, преподнося их все от того же таинственного первого лица. Однако начинающего публициста, конечно, сильно заботит атрибуция текстов, и вскоре он находит удивительное, но вполне характерное для него компромиссное полурешение. Очередную свою публикацию – «Ответ „Социал-демократу“» – Сталин предваряет словами, подчеркивающими его индивидуальное авторство:
Прежде всего я должен извиниться перед читателем, что запоздал с ответом. [С годами он так же клиширует этот покаянный эпистолярный зачин, как и последующую ссылку на свое подчиненное положение в составе «мы».] Ничего не поделаешь: обстоятельства заставили работать в другой области, и я был вынужден на время отложить свой ответ; сами знаете – мы не располагаем собой.
Я должен еще заметить вот что: автором брошюры «Коротко о партийных разногласиях» многие считают Союзный комитет, а не отдельное лицо. Я должен заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союзному комитету принадлежит только редакция ее.
В дальнейшем у него появятся уточнения обратного свойства: такая-то статья принадлежит не ему лично, а написана по поручению ЦК; с другой стороны, он способен присвоить себе авторство коллективных, хотя и отредактированных им опусов. Все это лишний раз показывает, насколько условной оставалась для него преграда между анонимным «мы» и «я», растекающимися на всю партию. Но пока, в этот кавказский период, мы сталкиваемся с еще более причудливой формой атрибуции: энергично отстаивая в «Ответе» свою публицистическую индивидуальность, Сталин снова оставляет статью без подписи[108 - Аналогичной практики – вероятно, от избытка осторожности – он придерживается и в критических ситуациях 1917 года. «Одной из удивительных особенностей августовских публикаций Сталина, – озадаченно пишет Р. Слассер, – было то, что ни одна из них не носила никаких указаний на его авторство» (Слассер Р. Сталин в 1917 году: Человек, оставшийся вне революции. М., 1989. С. 233).].
Легко увидеть здесь прямое сходство с его привычкой безымянно цитировать тех или иных писателей. Иногда так же анонимно он цитирует вместе с ними и самого себя. Вспоминая в 1922 году о Ленском расстреле, он прибавляет: «„Звезда“ была тогда права, восклицая: „Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил…“» – Сталин пересказывает собственную заметку столь же конспиративно, как и подразумеваемого в ней Уитмена.
Он вообще обожал безличные конструкции, безымянные ссылки: «говорят… утверждают». Но эта манера дополняется у него обратной готовностью победоносно атрибутировать абстрактное «говорение» конкретным лицам, будто прорезающимся из серого марева. Естественно, что охотнее всего он применяет этот метонимический прием в криминальных видах, уличая какого-нибудь мелкого оппонента в том, будто тот излагает взгляды Троцкого, Бухарина или другого влиятельного ересиарха. Технология навета нам уже известна. Сперва Сталин выявляет созвучия между чьей-либо «ошибкой» и соответствующей антимарксистской теорией, а потом, верный своей нелюбви к аналогиям, подменяет сопоставление отождествлением.
Правда, и сама личность оппозиционеров, согласно марксистским идеологемам, предстает в сталинском изображении лишь отпечатком или отголоском того или иного враждебного класса или социальной группы, – но весь подлинный интерес и вся интрига сосредоточены для него именно в этой индивидуальной сфере. «Вопрос о лицах не решает дела, хотя и представляет несомненный интерес», – вскользь замечает он, готовясь к разгрому Бухарина.
Достигнув неизмеримо большей власти, чем Гитлер или Муссолини, Сталин, в отличие от них, предпочитал, как известно, вместо «я» говорить «мы». В дальнейшем будет показано, что он узурпировал и коллективистский пафос «богостроителей». С формальной точки зрения тут взаимодействуют два подхода. Согласно принципу раrs рrо toto, он как бы собирает, аккумулирует в себе волю олицетворяемого им целого и потому замещает его, но, с другой стороны, Сталин одновременно остается всего лишь частицей абстрактного социума. В первом случае его «мы» – массовидное инкогнито царского величия («мы, Николай Второй…»), во втором – знак марксистской принадлежности к этой же массе. Верный своей склонности к раздвоению, «двурушничеству», он словно и отождествляется с группой, и смотрит на нее извне. Попытаемся как-то очертить, определить эту странно овнешненную позицию.
Мы и сверх-мы: вычленение метафизического субъекта
Если внимательнее присмотреться к знакомой нам фразе: «Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют единое целое», то нетрудно будет обнаружить замечательнейший нюанс, проливающий свет на подлинную уникальность сталинского мышления. В апофеоз аппаратно-народного двуединства исподволь привнесен некий третий, главенствующий элемент, а именно «партия» как таковая, чем-то отличающаяся, наверное, и от аппарата, и от собственных своих масс. Это столь же неуловимая, сколь и могущественная абстракция, которая витает, подобно божественному арбитру, над обеими своими составными. Ближе всего к ее сущности стоит, очевидно, понятие «единое целое», но и здесь нет полной тождественности – ибо партия эту свою целостность оценивает тоже как бы извне, словно отвлекаясь от себя самой. С похожей двусмыслицей мы уже соприкасались на материале сталинской демагогии относительно «беспартийных организаций» и «всей массы» пролетариата, отделяющих партию от класса в целом. Где тут сам этот целостный класс?
Под таким углом стоит заново обратиться к соотношению понятий «мы» и «партия». Заканчивая отчетный доклад на XV съезде обычными ритуальными лозунгами, Сталин среди прочего объявил:
Трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы – большевики, выкованные железной партией Ленина.
В таком же двусмысленном освещении подается опальная группа и по отношению к партийному «большинству», статус которого примечательно эволюционирует на протяжении небольшого фрагмента из сталинской речи на XIV съезде, долженствовавшей продемонстрировать гуманность генсека:
Позвольте теперь перейти к истории нашей внутренней борьбы внутри большинства Центрального Комитета <…> Ленинградский губком вынес постановление об исключении Троцкого. Мы, т. е. большинство ЦК, не согласились с этим, имели некоторую борьбу с ленинградцами [т. е. с Зиновьевым] и убедили их выбросить из своей резолюции пункт об исключении. Спустя некоторое время после этого, когда собрался у нас пленум ЦК и ленинградцы вместе с Каменевым потребовали немедленного исключения Троцкого из Политбюро, мы не согласились и с этим предложением оппозиции, получили большинство, ограничились снятием Троцкого с поста наркомвоенмора. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что метод отсечения, метод пускания крови – а они требовали крови – опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого – что же у нас останется в партии?
Сперва борьба развертывается тут внутри того самого («нашего») большинства, в которое входили тогда вместе со Сталиным жестокосердые ленинградцы и Каменев. Затем «мы» – это и есть «большинство ЦК», только уже без зиновьевцев – большинство, получившее доминантный статус: «мы… ограничились… мы не согласились»; зато кровожадные Зиновьев и Каменев теперь ретроспективно переосмысляются в качестве тогдашней оппозиции, а вовсе не части правоверного большинства. И наконец, «мы» исподволь отождествлено со всей «партией» («у нас… в партии»).
Приведу другой, довольно изощренный образец перестановки, поэтапно осуществляемой в объеме небольшого абзаца. В 1928 году Сталин вспоминает о том, как Ленин некогда строго наказал проштрафившихся функционеров:
Прав ли был Ленин, поступая так? Я думаю, что он был совершенно прав. В ЦК тогда положение было не такое, как теперь. Половина ЦК шла тогда за Троцким, а в самом ЦК не было устойчивого положения. Ныне ЦК поступает несравненно более мягко. Почему? Может быть, мы хотим быть добрее Ленина? Нет, не в этом дело. Дело в том, что положение ЦК теперь более устойчиво, чем тогда, и ЦК имеет теперь возможность поступать более мягко.
Рассмотрим графически выделенные фрагменты. Как и в предыдущем случае, сперва речь велась о прежнем положении «в ЦК», то есть внутри достаточно разнородной группы, половина которой «шла за Троцким». Затем – уже о положении ЦК как абсолютно целостного образования, выступающего поэтому в качестве коллективной личности, заменившей своего вождя. (В те годы для Сталина уже характерны такие выражения, как «ЦК РКП(б) <…> стал бы хохотать до упаду» и другие, не менее красочные формы персонификации.) Что касается Ленина, то, будучи символом партии и верховным арбитром, он в тот ранний период, согласно этому описанию, пребывал словно за пределами еще рыхлого и неоформленного ЦК, управляя им со стороны. Иначе говоря, обособленность может трактоваться и позитивно – но только тогда, когда она обозначает самую суть, субстанцию большевизма (в дальнейшем мы не раз будем иметь дело с этой чисто метафизической константой сталинского мышления). Во всех остальных случаях выделенность равнозначна роковому отпадению от партии – вернее, от правящей сталинской группы в ЦК. Отсюда и антитезы:
Большевики говорили… Правые уклонисты упорно отмежевывались от большевистского прогноза. (Т. е. правые уклонисты – это уже не большевики.)
Партия отвечает… Оппозиция же говорит…
И наконец:
Вопрос стоит так: либо партия, либо оппозиция.
Дихотомия, как мы только что видели, может развертываться и посредством тонких грамматических сдвигов, за счет меняющегося соотношения личных местоимений «мы», «вы» и «они». Утрированно марксистское, массовидное «мы» Сталин употребляет при любой оказии. Даже хрестоматийное «Платон мне друг, но истина дороже» он, на богдановско-богостроительный манер, переключает в коллективистский регистр:
В старину говорили про философа Платона: Платона мы любим, но истину – еще больше. То же самое можно было бы сказать и о Бухарине: Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн любим мы еще больше.
Получается, что Бухарин, которого Ленин называет «лучшим теоретиком» и «любимцем партии», будто невзначай противопоставлен марксистской «истине» и этой самой «партии»[101 - Волкогонов совершенно убедительно усматривает в этом, как и во многих других замечаниях генсека, скрытую полемику с ленинской оценкой Бухарина: Указ. соч. Кн. I. Ч. 1. С. 14.Цит. по: Максименков Л. Сумбур вместо музыки. С. 194–195.].
Показателен отрывок из сталинского выступления на выпуске Академии Красной армии (1935):
Эти товарищи <…> рассчитывали запугать нас и заставить свернуть с ленинского пути. Эти люди, видно, забыли, что мы, большевики, – люди особого покроя. – и т. д.
Антитеза «мы – они», прослеживаемая еще к его ранним антименьшевистским выпадам в брошюре 1905 года («Они объявили партии бойкот <…> и стали грозить партии»), вообще принадлежит к числу наиболее употребительных сталинских ходов. Чаще всего «мы» – это «большевики», целостная партия, к которой понапрасну пытаются примазаться «они» – лидеры оппозиции, не понимающие «наших большевистских темпов»; «в старину у нас, большевиков, бывало так… Мы этого от вас [небольшевиков] не требуем», – а иногда, напротив, требуем:
Вы хотите знать, чего требует от вас партия, уважаемые оппозиционеры, – теперь вы знаете, чего она от вас требует.
Приведу также примечательный пример того, как зреет идея отторжения в самых на первый взгляд миролюбивых сталинских тирадах. В заключительной части своего доклада на XIV съезде Сталин сказал:
Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них – если они этого не захотят.
Добиться единства без Каменева и Зиновьева – это и значит их «отсечь».
Прием столкновения местоимений всегда содержит смертельную угрозу. В декабре достопамятного 1937 года Сталин получил от Л. Мехлиса (редактора «Правды») запрос относительно памфлета «Ад», сочиненного опальным Демьяном Бедным. Обнаружив там «критику советского строя», вождь поручил передать «новоявленному Данте»:
Так как у нас (у советских людей) литературного хлама и так не мало, то едва ли стоит умножать такого рода литературу еще одной басней, так сказать…
Спустя много лет, в 1952?м, антитеза звучит все так же зловеще:
Тт. Санина и Венжер, видимо, не согласны с этим. Тем хуже для них. Ну, а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения…
Противопоставления могут иметь и не столь инквизиторский, но все же достаточно безрадостный характер. Вот Сталин обращается с речью к хозяйственникам, взявшим на себя повышенные обязательства:
Товарищи! <…> Слово большевика – серьезное слово. Большевики привыкли выполнять обещания, которые они дают <…> Но мы научены «горьким опытом». Мы знаем, что не всегда обещания выполняются.
В нарочито туманной схеме большевики гипотетически противопоставлены «вам», которым еще предстоит доказать свое право на звание коммуниста. Здесь «мы» – это те именно правоверные («серьезные», настоящие) большевики. Но в принципе дело гораздо сложнее. «Мы» может получать весьма эластичный, нефиксированный набор значений, включающих в себя все что угодно: и «они», и «вы», и, главное, «я».
Та же метода удобна для постановки национальных проблем. На роковом октябрьском пленуме 1952 года Сталин напустился на Молотова, приписав ему семейно-политическую связь с еврейством, желающим отторгнуть от СССР лакомую часть его территории (на самом деле речь шла о провокации, задолго до того готовившейся для уничтожения еврейства): «А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым»[102 - Сталин И. Соч. Т. 18. С. 585.] – т. е. евреи в этой формуле противопоставлены нам, Советскому Союзу.
Мы и я: между массой и личностью
Порой «мы» применяется для покаянных формул безлично-обобщенной «большевистской самокритики», нивелирующих индивидуальную провинность Сталина, – например, его ответственность за постыдно скромный масштаб репрессий: «Сама жизнь не раз сигнализировала нам о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым серьезным сигналом». Еще более серьезные сигналы поступали к 1937 году – но, увы, «мы» их тоже своевременно не распознали: «Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты». (Правда, «мы» в данном случае – это скорее «они», прочие партийцы, а не сам бдительный вождь».)
Зато сходные маневры со стороны своих политических противников Сталин незамедлительно пресекает:
Зиновьев говорил в этой цитате о том, что «мы ошиблись». Кто это мы? Никаких «мы» не было и не могло быть тогда. Ошибся, собственно, один Зиновьев.
К себе он относится куда снисходительнее. Правда, в 1920?е годы он изредка кается в своих персональных грехах, но, как отмечают биографы, в целом преобладает это его хорошо известное стремление растворить «ошибки» в необъятном лоне партии, свалить вину «на стрелочника»[103 - Иногда оба варианта – укрывание за спиной «мы» и перенос вины на низовых руководителей – у него совмещаются; ср.: «Мы виноваты в том, что целый ряд наших партийных руководителей оторвались от колхозов… Мы виноваты в том, что целый ряд наших товарищей все еще переоценивает колхозы».]. Единичные формулы индивидуального покаяния могут звучать следующим образом: «Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии»; «Как один из членов ЦК я также отвечаю, конечно, за эту неслыханную оплошность».
Однако и свое всевластие генсек обычно выдает за выражение партийного или всеобщего «мы». По замечанию Волкогонова, «уже в середине 30?х годов его указания оформлялись как постановления ЦК или циркулярные распоряжения»; а во время войны, занимая несколько должностей, Сталин подписывал документы «тоже по-разному: от имени ЦК, Ставки, ГКО или Наркомата обороны». Нередко на этих директивах, по его распоряжению, проставлялись подписи тех, кто тогда отсутствовал или просто не имел к тексту никакого касательства[104 - Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. I. Ч. 2. С. 108; Кн. 11. Ч. 1. С. 177, а также с. 205–206 и др.]. С другой стороны, не признавая за собой никаких ведомственных ограничений, он распространял свою власть – и свою личность – на все сферы деятельности. «Многие сторонние посетители, вызываемые в Кремль, – пишет Исаак Дойчер, – поражались тому, как во многих вопросах, больших и малых, военных, политических и дипломатических, Сталин лично принимал решения. По сути дела, он был сам себе главнокомандующим, министром обороны, квартирмейстером, министром снабжения, министром иностранных дел и даже chef du protocole»[105 - Deutcher I. Stalin: A Political Biography. Penguin Books, 1966. Р. 456.].
Все выглядело так, будто, прекрасно разбираясь именно в психологической ситуации – по крайней мере, в эмоционально-интуитивном основании любой личности, ее «нижнем этаже», – и строя на этом понимании свою высокоэффективную «кадровую политику», Сталин в то же время парадоксально не способен к осознанию собственно персонального начала, индивидуальной бытийности человека – и потому с такой неимоверной легкостью то смешивает его с социальной группой, то резко вычленяет из нее. И точно так же, несмотря на весь свой ревнивый и агрессивный нарциссизм, он без труда отрекается от собственного «я», обволакивая его бесцветным покровом коллектива. Эта двойственность сказывается и в быту: мы знаем о его угрюмой нелюдимости, болезненно проступившей, например, в годы Туруханской ссылки, – но в другие времена он умел контрастно сочетать мизантропическое затворничество и скотскую грубость с повышенной контактностью, умением очаровывать и привлекать к себе множество людей. По данным Волкогонова, он очень редко встречался с посетителями наедине – предпочитал находиться в обществе Молотова, Ворошилова и прочих «товарищей», обычно выполнявших, однако, работу немых статистов, роль коллективистского фона[106 - «Когда я приходил докладывать Сталину, – вспоминал Ковалев [бывший нарком путей сообщения], – у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Я еще про себя думал: мешают только. Вопросов никогда не задают. Сидят и слушают. Что-то записывают. А Сталин распоряжается, звонит, подписывает бумаги, вызывает Поскребышева, дает ему поручения… А они сидят. Сидят и смотрят то на Сталина, то на вошедшего… И так я эту картину заставал десятки раз… Видимо, Сталину нужно было это присутствие. То ли для выполнения возникающих поручений. То ли для истории…» (цит. по: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 1. С. 187). Ср. там же: «Для него это был своеобразный „аппаратный антураж“, психологический допинг, к которому он привык, как к какому-то обряду, ритуалу выработки решений» (Кн. II. Ч. 2. С. 131).].
Мне кажется, Сталин – в некотором согласии с теорией «нарциссического расстройства», развернутой Кохутом[107 - Kohut H. The Analysis of the Self: A Systematic Approach to the Psychological Treatment of Narcissistic Personalities Disorders. New York, 1971. Возможность применения его теории к личности Сталина обсуждается в книге Д. Ранкур-Лаферриера. Указ. соч. С. 216–217.], – обладал каким-то гуттаперчевым чувством собственной индивидуальности: она то сжималась до эгоцентрической точки, то расширялась в безудержной экспансии, абсорбирующей любую общность. Если его «мы» зачастую предстает только ритуальной завесой для тиранического «я», то и последнее, в свою очередь, нередко подвергается деперсонализации. Более того, как ни странно это звучит, «я» далеко не сразу обретает свою, так сказать, собственно личностную адекватность в его ранних писаниях. Сама истина, вещая его анонимными устами, нерешительно застывает на полпути к персонификации. В одной из первых своих работ, «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904), Сталин напрямую отождествил себя с логикой и учением марксизма. Полемизируя с печатным органом грузинских федералистов «Сакартвело» и, как всегда, стараясь унизить противника, он снисходительно замечает:
Я готов даже оказать ему [«Сакартвело»] помощь в деле разъяснения нашей программы, но при условии, чтобы оно: 1) собственными устами признало свое невежество; 2) внимательно слушало меня и 3) было бы в ладу с логикой.
Единственное, что слегка подрывает эту величавую менторскую позицию, – тот факт, что свою заметку автор публикует без подписи (т. е. без всякого псевдонима). Кого же тогда слушать невежественным оппонентам? Сварливый призрак марксистской истины еще некоторое время продолжает блуждать в конспиративных туманах, не решаясь приоткрыть свой лик. В брошюре «Коротко о партийных разногласиях» (1905) Сталин вновь выступает с обширным набором наставлений, преподнося их все от того же таинственного первого лица. Однако начинающего публициста, конечно, сильно заботит атрибуция текстов, и вскоре он находит удивительное, но вполне характерное для него компромиссное полурешение. Очередную свою публикацию – «Ответ „Социал-демократу“» – Сталин предваряет словами, подчеркивающими его индивидуальное авторство:
Прежде всего я должен извиниться перед читателем, что запоздал с ответом. [С годами он так же клиширует этот покаянный эпистолярный зачин, как и последующую ссылку на свое подчиненное положение в составе «мы».] Ничего не поделаешь: обстоятельства заставили работать в другой области, и я был вынужден на время отложить свой ответ; сами знаете – мы не располагаем собой.
Я должен еще заметить вот что: автором брошюры «Коротко о партийных разногласиях» многие считают Союзный комитет, а не отдельное лицо. Я должен заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союзному комитету принадлежит только редакция ее.
В дальнейшем у него появятся уточнения обратного свойства: такая-то статья принадлежит не ему лично, а написана по поручению ЦК; с другой стороны, он способен присвоить себе авторство коллективных, хотя и отредактированных им опусов. Все это лишний раз показывает, насколько условной оставалась для него преграда между анонимным «мы» и «я», растекающимися на всю партию. Но пока, в этот кавказский период, мы сталкиваемся с еще более причудливой формой атрибуции: энергично отстаивая в «Ответе» свою публицистическую индивидуальность, Сталин снова оставляет статью без подписи[108 - Аналогичной практики – вероятно, от избытка осторожности – он придерживается и в критических ситуациях 1917 года. «Одной из удивительных особенностей августовских публикаций Сталина, – озадаченно пишет Р. Слассер, – было то, что ни одна из них не носила никаких указаний на его авторство» (Слассер Р. Сталин в 1917 году: Человек, оставшийся вне революции. М., 1989. С. 233).].
Легко увидеть здесь прямое сходство с его привычкой безымянно цитировать тех или иных писателей. Иногда так же анонимно он цитирует вместе с ними и самого себя. Вспоминая в 1922 году о Ленском расстреле, он прибавляет: «„Звезда“ была тогда права, восклицая: „Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил…“» – Сталин пересказывает собственную заметку столь же конспиративно, как и подразумеваемого в ней Уитмена.
Он вообще обожал безличные конструкции, безымянные ссылки: «говорят… утверждают». Но эта манера дополняется у него обратной готовностью победоносно атрибутировать абстрактное «говорение» конкретным лицам, будто прорезающимся из серого марева. Естественно, что охотнее всего он применяет этот метонимический прием в криминальных видах, уличая какого-нибудь мелкого оппонента в том, будто тот излагает взгляды Троцкого, Бухарина или другого влиятельного ересиарха. Технология навета нам уже известна. Сперва Сталин выявляет созвучия между чьей-либо «ошибкой» и соответствующей антимарксистской теорией, а потом, верный своей нелюбви к аналогиям, подменяет сопоставление отождествлением.
Правда, и сама личность оппозиционеров, согласно марксистским идеологемам, предстает в сталинском изображении лишь отпечатком или отголоском того или иного враждебного класса или социальной группы, – но весь подлинный интерес и вся интрига сосредоточены для него именно в этой индивидуальной сфере. «Вопрос о лицах не решает дела, хотя и представляет несомненный интерес», – вскользь замечает он, готовясь к разгрому Бухарина.
Достигнув неизмеримо большей власти, чем Гитлер или Муссолини, Сталин, в отличие от них, предпочитал, как известно, вместо «я» говорить «мы». В дальнейшем будет показано, что он узурпировал и коллективистский пафос «богостроителей». С формальной точки зрения тут взаимодействуют два подхода. Согласно принципу раrs рrо toto, он как бы собирает, аккумулирует в себе волю олицетворяемого им целого и потому замещает его, но, с другой стороны, Сталин одновременно остается всего лишь частицей абстрактного социума. В первом случае его «мы» – массовидное инкогнито царского величия («мы, Николай Второй…»), во втором – знак марксистской принадлежности к этой же массе. Верный своей склонности к раздвоению, «двурушничеству», он словно и отождествляется с группой, и смотрит на нее извне. Попытаемся как-то очертить, определить эту странно овнешненную позицию.
Мы и сверх-мы: вычленение метафизического субъекта
Если внимательнее присмотреться к знакомой нам фразе: «Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют единое целое», то нетрудно будет обнаружить замечательнейший нюанс, проливающий свет на подлинную уникальность сталинского мышления. В апофеоз аппаратно-народного двуединства исподволь привнесен некий третий, главенствующий элемент, а именно «партия» как таковая, чем-то отличающаяся, наверное, и от аппарата, и от собственных своих масс. Это столь же неуловимая, сколь и могущественная абстракция, которая витает, подобно божественному арбитру, над обеими своими составными. Ближе всего к ее сущности стоит, очевидно, понятие «единое целое», но и здесь нет полной тождественности – ибо партия эту свою целостность оценивает тоже как бы извне, словно отвлекаясь от себя самой. С похожей двусмыслицей мы уже соприкасались на материале сталинской демагогии относительно «беспартийных организаций» и «всей массы» пролетариата, отделяющих партию от класса в целом. Где тут сам этот целостный класс?
Под таким углом стоит заново обратиться к соотношению понятий «мы» и «партия». Заканчивая отчетный доклад на XV съезде обычными ритуальными лозунгами, Сталин среди прочего объявил:
Трудности будут. Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо мы – большевики, выкованные железной партией Ленина.