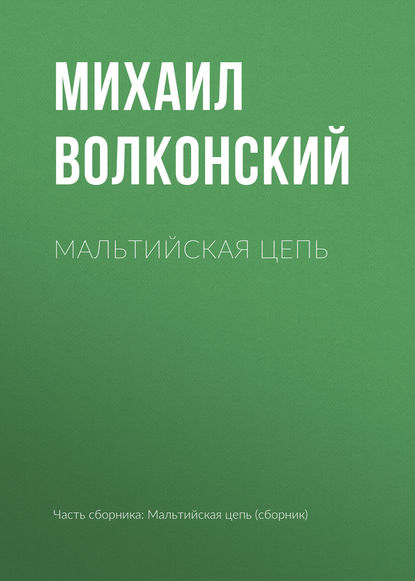По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мальтийская цепь
Год написания книги
1901
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Два лакея, которым он помешал в сенях играть в шашки, недоверчиво и слегка недружелюбно отнеслись к нему, несмотря на его богатый костюм, по самой последней моде, в который он разрядился. Но он так убедительно просил их, обрадовавшись, что они понимают по-итальянски (лакеи оказались из числа тех, которые давно жили еще с покойным графом в Италии), что они наконец уступили его мольбам и пошли о нем докладывать. Однако они ходили раза два и возвращались, и снова Мельцони убеждал и просил их, пока графиня приняла его.
Дело оказалось, в сущности, самым вздорным: Мельцони придрался к каким-то денежным счетам по Неаполю, уверив, что будто бы хозяин палаццо, в котором жили там Скавронские, поручил ему переговорить. Однако Мельцони делал это с таким серьезным видом и так деловито, что графиня действительно поверила, что ему необходимо было видеть ее.
Поговорив о деле, Мельцони перешел на воспоминания о Неаполе, рассказывал, что видал там Скавронскую, восхищался ее красотою и искал случая познакомиться с нею, но, к крайнему своему отчаянию, не находил этого случая, а вот наконец судьба привела встретиться. И он тут же отблагодарил судьбу и так далее.
Вообще он вел себя, на взгляд графини, несколько странно. Его глаза горели каким-то особенным блеском, он говорил так горячо, так волновался и так хотел, чтобы его задержали, чтобы оставили подольше, что Скавронская несколько раз взглядывала на него, как бы спрашивая, что это значит.
Она не могла знать, что она составляет давнишний предмет страсти для Мельцони, который из-за этого еще в Неаполе чуть не покончил с Литтою при помощи отравленной шпаги, и что до сих пор он мечтает и думает лишь о ней и невыразимо счастлив тем, что сидит теперь с нею и говорит и смотрит на нее. В его худеньком теле текла все-таки южная кровь, и казалось, он на все был способен теперь, чтобы только назвать своею эту чудную «северную красоту», как он окрестил в своих мечтах графиню Скавронскую.
Узнав, что она больна, Мельцони стал просить позволения привезти эликсир, который у него есть и который делает чудеса, вылечивая, как китайский корень женьшень, от двадцати двух болезней.
Насилу Скавронская отделалась от него. Но Мельцони уехал с твердою уверенностью, что получил позволение привезти свой чудодейственный эликсир.
X. Обыск
Литта лежал у себя на постели и ворочался с боку на бок, напрасно силясь заснуть. Сон не шел к нему, и граф, думая об одном и том же, чувствовал, как устала его голова и усталость эта переходила во все тело. И предшедшую ночь он тоже не спал. Он слышал, как пробило полночь, потом час. Было уже около двух.
И вдруг Литте показалось, что к двери его осторожно, на цыпочках, кто-то подошел. Граф притаил дыхание и прислушался: шорох стих.
«Нет, верно, мне показалось», – решил Литта и снова зажмурил глаза.
Несколько минут все было покойно. Но вот опять Литта поднялся на подушке и вытянул голову в сторону двери. Там положительно что-то шевелилось, хотя так тихо, что едва можно было разобрать.
Литта спустил ноги с кровати, отыскал ими туфли и, надев на плечи халат, на цыпочках подошел к двери, ведшей в его кабинет, и приложил ухо. В кабинете был кто-то. Тогда Литта быстро распахнул дверь и остановился на пороге.
Кабинет был освещен. Свечка стояла на бюро графа, и ее заслоняла широкая спина наклонившегося над бюро человека, тень которого падала широкою полосою на часть комнаты.
Литта узнал своего камердинера, возившегося над его бюро и гремевшего ключами. Он ясно видел, как итальянец словно искал чего-то в одном из открытых ящиков бюро. Услыхав стук отворенной двери, камердинер быстро захлопнул ящик и отодвинулся от бюро.
– Что вы тут делаете? – спросил Литта. Камердинер смутился и в первую минуту не знал, что ответить.
– Я… эчеленца… – начал он. – Я хотел убрать здесь.
– В два часа ночи? – переспросил граф.
– Да, но я думал… я не знал… – бормотал камердинер.
Он хотел найти какой-нибудь предлог, солгать, но ничего не приходило ему в голову. Он слишком был уверен, что его барин, проведший прошлую ночь напролет без сна, теперь крепко спит.
Графа долгое время уже интересовало, кто мог тогда подложить ему в карету и в шубу записки, приглашавшие его в кондитерскую Гидля. Теперь ему стала ясна связь ночной работы, за которою он застал итальянца, с этими записками.
«Так вот оно что!.. Патер Грубер чисто ведет свои дела!» – подумал он и, приблизившись к бюро, бегло осмотрел его.
Он вспомнил, что, по счастью, все бумаги, более или менее важные, были у него в Гатчине и камердинер не мог ничего найти у него здесь.
В первую минуту, застигнув слугу врасплох, граф хотел было заставить его говорить и сознаться, но потом ему так стал противен этот итальянец, испуганно стоявший перед ним, что он мог только сказать ему:
– Ступайте прочь, ступайте – и чтобы завтра же вас не было у меня! Я вас не стану держать.
Камердинер, видя, что Литта ограничится, по-видимому, лишь тем, что выгонит его, – чего, впрочем, он боялся менее всего, потому что, зная, какие были теперь денежные средства у графа, и сам не находил выгодным служить у него, – сейчас же почувствовал под собою почву и, немного оправившись, проговорил:
– О, если эчеленца даст мне расчет…
– Вы получите ваш расчет! – крикнул Литта, топнув ногою, и итальянец, вздрогнув, юркнул в дверь так поспешно, как только мог.
Ничто не могло так взволновать Литту, как какая-нибудь человеческая гадость, происшедшая у него на глазах. И этот поступок итальянца, служившего у него долгое время и ничего, кроме хорошего, не видевшего от него, возмутил его до глубины души.
«Господи! – думал Литта, ходя по своему кабинету из угла в угол. – До чего люди гадки, мерзки!.. Что же это? Нельзя быть спокойным даже у себя в доме».
И он снова заходил, забыв уже о сне, и о позднем времени, и о том, что не спал прошлую ночь.
Бледные лучи петербургской перламутровой зари застали графа в этом состоянии. Мало-помалу в окна стал пробиваться наконец утренний туманный свет.
Литта потушил оставленную итальянцем на бюро свечу и, опустившись на кресло, закрыл глаза. Утренняя дрема начала одолевать его. Сна все еще не было, но какой-то туман застилал мысли – все путалось, кружилось. Физическая усталость брала свое.
Литта долго просидел так не двигаясь, наконец почувствовал, что кто-то осторожно трясет его за плечо. Он открыл глаза. Пред ним стоял выездной лакей и будил его.
– Ваше сиятельство, – говорил он, – ваше сиятельство, там вас спрашивают. Приказали доложить вам сейчас же… по делу, говорят.
– По какому делу, кто спрашивает?
Литта взглянул на часы: было половина девятого. Он спросил, где камердинер; лакей ответил, что итальянец давно ушел, сказав, что не вернется.
– Проведите меня прямо в кабинет графа и просите их туда! – услышал в это время Литта за дверью, и вслед за тем к нему вошел Грибовский в сопровождении двух полицейских. – Ничего, не беспокойтесь, – бесцеремонно сказал он Литте, видя его в халате, – ничего… Я явился к вам по именному повелению.
Литта сделал знак людям выйти и, решительно не понимая появления у себя в доме зубовского секретаря с полицейскими, обратился к нему с вопросом:
– Что же вам угодно?
Грибовский подал ему бумагу, добавив:
– А вот, не угодно ли прочесть…
В бумаге стояло, что полковнику Грибовскому поручается потребовать у графа Литты письма баронессы Канних, а буде он воспротивится тому, то произвести обыск и отобрать письма.
– Что за вздор! – не удержался Литта. – Какие тут письма? У меня нет никаких. Правда, были какие-то записки, и если я найду их, то отдам, пожалуй.
– Кому как! – ответил Грибовский. – Для вас, может быть, вздор, а для баронессы это очень важно.
Литта отлично понял, что это был только предлог, очень грубый, чтобы покопаться в его бумагах и отыскать в них что-нибудь подходящее для обвинения более серьезного. Зубов сказался в этом весь. Видимо, он не церемонился с Литтой, потерявшим всякое значение при дворе.
«Еще новая гадость!» – мелькнуло у графа, и он тотчас же спросил:
– Что ж, это по просьбе самой баронессы?
– Это я не могу вам изъяснить, – ответил Грибовский. – Я должен лишь получить от вас письма.
Литта отлично помнил, как, уезжая в Гатчину, сжег и уничтожил все лишние, ненужные бумажки, в число которых попали, разумеется, и те несколько записок баронессы Канних, какие были у него.
Дело оказалось, в сущности, самым вздорным: Мельцони придрался к каким-то денежным счетам по Неаполю, уверив, что будто бы хозяин палаццо, в котором жили там Скавронские, поручил ему переговорить. Однако Мельцони делал это с таким серьезным видом и так деловито, что графиня действительно поверила, что ему необходимо было видеть ее.
Поговорив о деле, Мельцони перешел на воспоминания о Неаполе, рассказывал, что видал там Скавронскую, восхищался ее красотою и искал случая познакомиться с нею, но, к крайнему своему отчаянию, не находил этого случая, а вот наконец судьба привела встретиться. И он тут же отблагодарил судьбу и так далее.
Вообще он вел себя, на взгляд графини, несколько странно. Его глаза горели каким-то особенным блеском, он говорил так горячо, так волновался и так хотел, чтобы его задержали, чтобы оставили подольше, что Скавронская несколько раз взглядывала на него, как бы спрашивая, что это значит.
Она не могла знать, что она составляет давнишний предмет страсти для Мельцони, который из-за этого еще в Неаполе чуть не покончил с Литтою при помощи отравленной шпаги, и что до сих пор он мечтает и думает лишь о ней и невыразимо счастлив тем, что сидит теперь с нею и говорит и смотрит на нее. В его худеньком теле текла все-таки южная кровь, и казалось, он на все был способен теперь, чтобы только назвать своею эту чудную «северную красоту», как он окрестил в своих мечтах графиню Скавронскую.
Узнав, что она больна, Мельцони стал просить позволения привезти эликсир, который у него есть и который делает чудеса, вылечивая, как китайский корень женьшень, от двадцати двух болезней.
Насилу Скавронская отделалась от него. Но Мельцони уехал с твердою уверенностью, что получил позволение привезти свой чудодейственный эликсир.
X. Обыск
Литта лежал у себя на постели и ворочался с боку на бок, напрасно силясь заснуть. Сон не шел к нему, и граф, думая об одном и том же, чувствовал, как устала его голова и усталость эта переходила во все тело. И предшедшую ночь он тоже не спал. Он слышал, как пробило полночь, потом час. Было уже около двух.
И вдруг Литте показалось, что к двери его осторожно, на цыпочках, кто-то подошел. Граф притаил дыхание и прислушался: шорох стих.
«Нет, верно, мне показалось», – решил Литта и снова зажмурил глаза.
Несколько минут все было покойно. Но вот опять Литта поднялся на подушке и вытянул голову в сторону двери. Там положительно что-то шевелилось, хотя так тихо, что едва можно было разобрать.
Литта спустил ноги с кровати, отыскал ими туфли и, надев на плечи халат, на цыпочках подошел к двери, ведшей в его кабинет, и приложил ухо. В кабинете был кто-то. Тогда Литта быстро распахнул дверь и остановился на пороге.
Кабинет был освещен. Свечка стояла на бюро графа, и ее заслоняла широкая спина наклонившегося над бюро человека, тень которого падала широкою полосою на часть комнаты.
Литта узнал своего камердинера, возившегося над его бюро и гремевшего ключами. Он ясно видел, как итальянец словно искал чего-то в одном из открытых ящиков бюро. Услыхав стук отворенной двери, камердинер быстро захлопнул ящик и отодвинулся от бюро.
– Что вы тут делаете? – спросил Литта. Камердинер смутился и в первую минуту не знал, что ответить.
– Я… эчеленца… – начал он. – Я хотел убрать здесь.
– В два часа ночи? – переспросил граф.
– Да, но я думал… я не знал… – бормотал камердинер.
Он хотел найти какой-нибудь предлог, солгать, но ничего не приходило ему в голову. Он слишком был уверен, что его барин, проведший прошлую ночь напролет без сна, теперь крепко спит.
Графа долгое время уже интересовало, кто мог тогда подложить ему в карету и в шубу записки, приглашавшие его в кондитерскую Гидля. Теперь ему стала ясна связь ночной работы, за которою он застал итальянца, с этими записками.
«Так вот оно что!.. Патер Грубер чисто ведет свои дела!» – подумал он и, приблизившись к бюро, бегло осмотрел его.
Он вспомнил, что, по счастью, все бумаги, более или менее важные, были у него в Гатчине и камердинер не мог ничего найти у него здесь.
В первую минуту, застигнув слугу врасплох, граф хотел было заставить его говорить и сознаться, но потом ему так стал противен этот итальянец, испуганно стоявший перед ним, что он мог только сказать ему:
– Ступайте прочь, ступайте – и чтобы завтра же вас не было у меня! Я вас не стану держать.
Камердинер, видя, что Литта ограничится, по-видимому, лишь тем, что выгонит его, – чего, впрочем, он боялся менее всего, потому что, зная, какие были теперь денежные средства у графа, и сам не находил выгодным служить у него, – сейчас же почувствовал под собою почву и, немного оправившись, проговорил:
– О, если эчеленца даст мне расчет…
– Вы получите ваш расчет! – крикнул Литта, топнув ногою, и итальянец, вздрогнув, юркнул в дверь так поспешно, как только мог.
Ничто не могло так взволновать Литту, как какая-нибудь человеческая гадость, происшедшая у него на глазах. И этот поступок итальянца, служившего у него долгое время и ничего, кроме хорошего, не видевшего от него, возмутил его до глубины души.
«Господи! – думал Литта, ходя по своему кабинету из угла в угол. – До чего люди гадки, мерзки!.. Что же это? Нельзя быть спокойным даже у себя в доме».
И он снова заходил, забыв уже о сне, и о позднем времени, и о том, что не спал прошлую ночь.
Бледные лучи петербургской перламутровой зари застали графа в этом состоянии. Мало-помалу в окна стал пробиваться наконец утренний туманный свет.
Литта потушил оставленную итальянцем на бюро свечу и, опустившись на кресло, закрыл глаза. Утренняя дрема начала одолевать его. Сна все еще не было, но какой-то туман застилал мысли – все путалось, кружилось. Физическая усталость брала свое.
Литта долго просидел так не двигаясь, наконец почувствовал, что кто-то осторожно трясет его за плечо. Он открыл глаза. Пред ним стоял выездной лакей и будил его.
– Ваше сиятельство, – говорил он, – ваше сиятельство, там вас спрашивают. Приказали доложить вам сейчас же… по делу, говорят.
– По какому делу, кто спрашивает?
Литта взглянул на часы: было половина девятого. Он спросил, где камердинер; лакей ответил, что итальянец давно ушел, сказав, что не вернется.
– Проведите меня прямо в кабинет графа и просите их туда! – услышал в это время Литта за дверью, и вслед за тем к нему вошел Грибовский в сопровождении двух полицейских. – Ничего, не беспокойтесь, – бесцеремонно сказал он Литте, видя его в халате, – ничего… Я явился к вам по именному повелению.
Литта сделал знак людям выйти и, решительно не понимая появления у себя в доме зубовского секретаря с полицейскими, обратился к нему с вопросом:
– Что же вам угодно?
Грибовский подал ему бумагу, добавив:
– А вот, не угодно ли прочесть…
В бумаге стояло, что полковнику Грибовскому поручается потребовать у графа Литты письма баронессы Канних, а буде он воспротивится тому, то произвести обыск и отобрать письма.
– Что за вздор! – не удержался Литта. – Какие тут письма? У меня нет никаких. Правда, были какие-то записки, и если я найду их, то отдам, пожалуй.
– Кому как! – ответил Грибовский. – Для вас, может быть, вздор, а для баронессы это очень важно.
Литта отлично понял, что это был только предлог, очень грубый, чтобы покопаться в его бумагах и отыскать в них что-нибудь подходящее для обвинения более серьезного. Зубов сказался в этом весь. Видимо, он не церемонился с Литтой, потерявшим всякое значение при дворе.
«Еще новая гадость!» – мелькнуло у графа, и он тотчас же спросил:
– Что ж, это по просьбе самой баронессы?
– Это я не могу вам изъяснить, – ответил Грибовский. – Я должен лишь получить от вас письма.
Литта отлично помнил, как, уезжая в Гатчину, сжег и уничтожил все лишние, ненужные бумажки, в число которых попали, разумеется, и те несколько записок баронессы Канних, какие были у него.