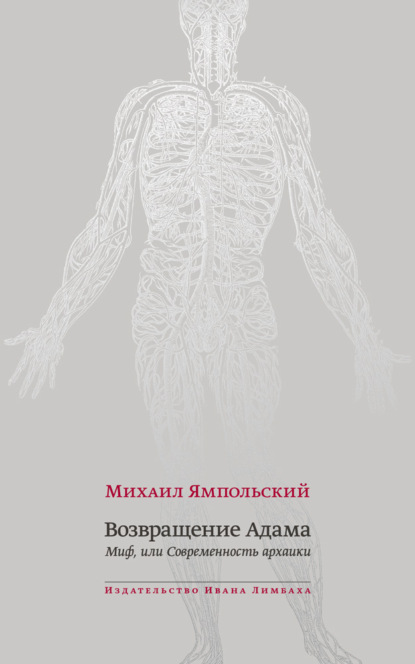По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И только постепенно наука (и культура в целом) стала освобождаться от противопоставления универсального и рационального локальному и неопределенному. Культура сегодня неожиданно ощущает саму себя пронизанной мифом, вбирающей разные времена, нестабильные и неуловимые персоны, неопределенность имен и эпиклес (эпитетов, которые сопровождают имена богов) и т. д. Миф отчасти перерастает статус внешнего, скандального объекта рефлексии и становится ядром современности, которая неожиданно открывает в себе архаику и в этом открытии обогащает видение самой себя.
Связано это, на мой взгляд, с тем, что культура сегодня утрачивает свое единство и все больше являет себя как совокупность разных локальных культур (ср. с трендом мультикультурализма) и сочленение разных эпох и времен. Само понятие современности парадоксально. Оно буквально значит соприсутствие разного в одном времени. В нем содержится смысл, отрицающий единство, заключенный в понятии модерна как целой эпохи со своим началом и концом. По замечанию Ганса Роберта Яусса, слово «модерность» (modernity) в эпохальном смысле фиксирует отличие нынешнего от прошлого[48 - См.: Jauss H. R. Modernity and Literary Tradition // Critical Inquiry. Winter 2005. Vol. 31. № 2. P. 329.], а именно этого смысла нет в понятии со-временности. Модерный всегда противопоставлялся antiquitas. Именно многовременность и множественная локальность и есть фундаментальная черта мифа, которую со-временность обнаруживает в себе[49 - См.: Ruffel L. Brouhaha. Worlds of the Contemporary. Minneapolis, 2018.]. Миф со-временности в этом смысле являет себя прямой противоположностью тоталитарному мифу, стремящемуся трансцендировать множественность в Едином.
Венсан Декомб связал понятие со-временности с идеей актуальности (которая в этой книге понимается довольно критично). Со-временность для него – это не принадлежность к некой общей абстрактной хронологии, она заключена во взаимодействии разных, независимых друг от друга установок и взаимовлияющих видов деятельности: «Современные практики (activitеs contemporaines) современны потому, что тот факт, что они осуществляются в одно и то же время, понуждает их к взаимодействию во всех смыслах слова»[50 - Descombes V. Qu’est-ce qu’?tre contemporain? // Le Genre humain. 1999/2. № 35. P. 29.]. Но для того чтобы влиять и взаимодействовать, они должны сохранять свою исходную разнородность. Современность в таком смысле слова всегда предполагает анахронизм.
Поэзия Гандельсмана оказалась важной для меня прежде всего потому, что миф для поэта не является ни объектом стилизации, ни объектом эстетического любования или эрудированной «культурологии», но в высшей степени современным способом мышления. В этом я с ним солидарен. Миф сегодня – не объект, но конфигурация сознания (думаю, что это было всегда). Именно поэты кристаллизуют сознание эпохи, позволяя философам и ученым увидеть нечто, к чему у них нет иного доступа. «Слепота» мифа и мистика позволяют увидеть то, что остается недоступным взгляду дистанцированного созерцателя. Не прошлое архаических эпох, а современность парадоксально выступает из неопределенности, которую мы, за неимением лучшего слова, называем «мифом».
Но исследование мифа в современности имеет и иной важный для меня аспект. Миф предполагает крайнюю нестабильность, сопротивляющуюся рефлексию. Наиболее радикальная попытка уйти от упрощенного взгляда на миф была предпринята Клодом Леви-Строссом, согласно которому «миф противоречив по сути своей»[51 - Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. С. 215. Пер. Вяч. Вс. Иванова. Леви-Стросс пишет: «В мифе все может быть; кажется, что последовательность событий в нем не подчиняется правилам логики и нарушает закон причинности. Любой субъект может иметь здесь любой предикат, любые мыслимые связи возможны» (Там же).]. Миф приобретает свое значение только благодаря тому положению, которое он занимает по отношению к иным версиям этого же мифа и к другим мифам. Неустойчивость такой системы ведет к постоянным пермутациям и логическим трансформациям[52 - Эти пермутации происходят даже внутри мотивов, из которых как бы «составлен» миф: «Предположим, что настоящие составляющие единицы мифа представляют собой не отдельные отношения, а пучки отношений и что только в результате комбинаций таких пучков составляющие единицы приобретают функциональную значимость. Отношения, входящие в один пучок, могут появляться, если рассматривать их с диахронической точки зрения, на известном расстоянии друг от друга…» (Там же. С. 220).]. Отсюда возникает то, что Клод Калам называет «амбивалентностью» мифа. Но даже эта относительно неустойчивая и постоянно трансформирующаяся система слишком определенна для мифа. Миф слишком укоренен в локальных ритуальных и социальных практиках, в конкретике нарративов и перформансов, чтобы исчерпываться системой структурных оппозиций. Тот же Калам пишет, что «с точки зрения практической антропологии, а не семиотической прагматики такие конструкции больше не удовлетворительны»[53 - Calame С. Pour une anthropologie historique des mythes grecs: Formes poеtiques et pragmatique rituelle // Nordlit. November 2014. № 33. P. 15.]. Мне представляется, что миф приобретает свое значение лишь как творческая матрица воображения, тесно связанная с нестабильностью своей системы. Именно поэтому он позволяет новизну и одним этим согласуется с требованиями современности.
Сегодня мы живем в мире, который утратил отчетливость и структурность. Мы живем в мироздании, пронизанном сложностью и темнотой. Все меньше мы способны ощущать мир как нечто открытое нашему продуктивному воздействию и рациональному осмыслению. В таком мире трудно защищать позиции классической семиотики и филологии. Миф позволяет уйти от упрощающих схем и дает ориентацию в выработке новых (антропологических по своему существу) подходов к текстам.
Одной из очевидных реакций на возрастающую сложность мира является его упрощение, столь отчетливо выражающееся сегодня в распространении теорий заговора или нетерпимости и упрощенной веры в свою правоту. Все это отчетливо видно в реакциях на пандемию короновируса, воплощающего эту неуправляемую темноту мира. «Актуальные» искусство и «наука» часто идут по пути радикального упрощения, столь желанного для человека, блуждающего в потемках. Миф в такой ситуации, смею надеяться, позволяет нащупать подходы к мышлению, в котором первичная недифференцированность и темнота мира открывает возможности для творчества, а не для упрощающего догматизма.
Часть 1
Рай
1. «Ревизионистский клинамен»
Поэзия всегда обращалась к мифу. В древние времена она была от него неотделима. Но и сегодня поэты, даже говоря о современности, без устали используют мифологические мотивы. Такое мотивное переписывание Гарольд Блум когда-то назвал «ревизионизмом». Когда-то, по его мнению, «ревизионизму предшествовала ересь, но ересь стремится изменить усвоенное учение, изменяя систему равновесий, но не прибегая к тому, что можно назвать творческим исправлением, которое и отличает современный ревизионизм. Ересь начинается со смещения акцентов, тогда как ревизионизм следует усвоенному учению до определенной точки и затем отклоняется от него…»[54 - Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, 1998. С. 30.] Это отклонение Блум назвал термином, взятым у Лукреция, – клинамен.
Такое ревизионистское отклонение позволяет избежать упреков в прямом заимствовании. Когда же речь идет о старых классических текстах – Гомере, Овидии, Софокле, – «страх влияния» уходит, и клинамен превращается в практику осовременивания. Мифы постоянно переносятся в современность и говорят сегодняшним языком.
Такое осовременивание в каком-то смысле следует в фарватере психоанализа, который с легкой руки Фрейда увидел в мифах выражение подавленных желаний, вытесненных в подсознание. У Юнга миф превратился в вечный архетип, определяющий бессознательное. Тем самым миф отрывается от прошлого и как бы выпадает из времени. Миф – всегда современен. Марсель Гоше говорит о «переходе от абсолютного прошлого к абсолютному присутствию»[55 - Gauchet M. Le dеsenchantement du monde. Une histoire politique de la rеligion. Paris, 1985. P. 74. Гоше определял миф как описание установления порядка мира, которое относится к абсолютному прошлому, а потому не может быть изменено.].
Работа ревизионистского клинамена хорошо видна на истории «открытия» Фрейдом эдипова комплекса. В знаменитом письме к Вильгельму Флиссу от 15 октября 1897 года Фрейд впервые сообщает об обнаружении им этого универсального комплекса. Он объясняет, что пьеса Софокла помогла ему осознать, что сам он в детстве был влюблен в свою мать и испытывал ревность к отцу. Софокл лишь подтвердил ему универсальность этой детской ситуации.
Именно этим и объясняется (вполне в духе Аристотеля) сила воздействия пьесы Софокла на зрителей: «Каждый из зрителей был некогда в фантазии многообещающим Эдипом и в ужасе отшатывается от воплощения грез, перенесенных в реальность…»[56 - The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhe1m Fliess 1887–1904. Cambridge Mass., London, 1985. P. 272.] И вслед за этим Фрейд вспоминает иную пьесу, в которой, по его мнению, представлен эдипов комплекс, – «Гамлет» Шекспира: «Мимолетно в моей голове промелькнула мысль, что нечто сходное может лежать и в основе „Гамлета“»[57 - Ibid.]. Именно подавленным желанием датского принципа овладеть матерью и убить отца может объясняться его нерешительность в мести: «Как иначе объяснить его мучения, нежели смутным воспоминанием, что сам он думал о том же поступке по отношению к отцу и той же страсти по отношению к матери <…> Его сознание – это бессознательное чувство вины»[58 - Ibid. P. 273.].
Гамлет не просто мелькает в его сознании по аналоги с «Эдипом», он помогает ревизионистскому чтению «Эдипа» в плоскости психоанализа. Греческий Эдип, конечно, вовсе не реализовал своих подспудных желаний, ничего о них не знал и, как и полагается в греческой трагедии, существовал вне горизонта вины. Гамлета же Фрейд прямо называет «истериком», испытывающим неосознанное чувство вины и тем самым позволяющим поместить драму Софокла в механизм интеллектуального клинамена, отклонения. Жан Старобинский напоминает и о том, что «Фрейд не раз признавал, что вся концепция эдипова комплекса предвосхищена в одном месте из „Племянника Рамо“», где говорится о «маленьком дикаре», который «свернул бы шею отцу и обесчестил бы свою мать»[59 - Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры: В 2 т. М., 2002. Т. 1. С. 54. Перевод П. Шкаренкова.]. Тот же Старобинский дал глубокий анализ роли Гамлета в изобретении фрейдовского Эдипа[60 - Starobinski J. The Living Eye. Cambridge, Mass., 1989. P. 148–170.].
«Ревизионизм» мифа или древнего текста часто предполагает его деформацию с помощью иных текстов, работающих как интерпретаторы – Шекспир, Дидро. Но эти тексты встраиваются в траекторию клинамена и оказываются промежуточными инстанциями между исходным мифом и окончательным текстом ревизии. Часто, читая такие современные версии античных мифов, отдаешь себе отчет в том, что они прошли через призму гораздо более близких нам, порой даже современных авторов. Ревизионистский клинамен всегда, на поверхности приближая к нам древний текст, встраивает в отношения с ним множество иногда даже не осознаваемых современным автором посредников. Исходный текст не столько приближается, сколько отдаляется и часто теряет релевантность. Андре Грин заметил, что эдипов комплекс осознается Фрейдом на материале двух драм, то есть театра, где, с одной стороны, зритель непосредственно присутствует перед происходящим и одновременно отрезан от него рампой сцены, производящей отделение источника и объекта и, как он выражается, одновременно «соединение и разъединение» (rapport de conjonction et de disjonction)[61 - Green A. L’oeil en trop. Le Complexe d’Oedipe dans La Tragеdie. Paris, 1969. P. 13.]. Но это и есть, согласно Блуму, способ ревизионистского чтения мифа.
2. От мифа к логосу
Приближение мифологических сюжетов к современности является лишь одним из возможных подходов к мифу в литературе. Другой, прямо противоположный и, на мой взгляд, более продуктивный подход предполагает иное направление движения. Автор стремится, насколько это возможно, вернуться в «доисторические», «мифологические» времена, радикально отделенные от нас стеной времени. Время мифа, недостижимое для нас, многими понимается как время начала, первоистока.
Интерес поэзии к этому архаическому сознанию во многом определяется тем, что сама поэзия понималась как очень ранний продукт развития цивилизации, продукт того этапа, возвращение к которому якобы способно привести к «воскрешению слова», если использовать выражение Виктора Шкловского. В ранней статье 1914 года, где об этом говорится, Шкловский еще вполне тривиально представлял себе процесс эволюции литературы как постепенное забывание той живой образной формы, которая лежала в основе слова в архаические времена: «Древнейшим поэтическим творчеством человека было творчество слов. Сейчас слова мертвы, и язык подобен кладбищу, но только что рожденное слово было живо, образно. Всякое слово в основе – троп. Например, месяц: первоначальное значение этого слова – „меритель“; горе и печаль – это то, что жжет и палит; слово „enfant“ (так же, как и древнерусское – „отрок“) в подстрочном переводе значит „неговорящий“. Таких примеров можно привести столько, сколько слов в языке. И часто, когда добираешься до потерянного, стертого образа, положенного некогда в основу слова, то поражаешься его красотой – красотой, которая была и которой уже нет.
Слова, употребляясь нашим мышлением вместо общих понятий, когда они служат, так сказать, алгебраическими знаками и должны быть безобразными…»[62 - Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 36.] По мнению Шкловского, это выветривание образной основы слова (когда он писал эту статью, он еще верил в теорию «внутренней формы» слова Потебни и связывал с ней суть поэзии) адаптировало язык к абстрактному, теоретическому мышлению, но неизбежно вело к кризису поэзии[63 - «…слово, теряя „форму“, совершает непреложный путь от поэзии к прозе (Потебня, «Из записок по теории словесности»). Эта потеря формы слова является большим облегчением для мышления и может быть необходимым условием существования науки, но искусство не могло удовольствоваться этим выветрившимся словом. Вряд ли можно сказать, что поэзия наверстала ущерб, понесенный ею при потере образности слов…» (Шкловский В. Гамбургский счет. С. 37).]. Отсюда следовал важный для поэтического авангарда вывод о воскрешении слова на путях его возвращения к истокам.
Картина, которую рисует Шкловский, вполне соответствует представлениям того времени, согласно которым в культуре сначала складываются миф и поэзия, пронизанные образностью и зримостью. Постепенно на смену им приходят более абстрактные понятия, влекущие за собой возникновение логического мышления и, соответственно, науки и философии. Этот переход часто описывался как движение от Гомера и Гесиода к Эмпедоклу и Платону, а в широком смысле понимался как движение от мифа (mythos) к логосу, от поэзии к прозе. Это представление кодифицировал известный историк античной философии Френсис Корнфорд, утверждавший, что милетская или ионийская школы философии занимались буквально переписыванием мифа о теогонии, принадлежащего Гесиоду, подменяя персонажей мифа терминами, соответствующими явлениям и силам природы. Философия буквально возникает из абстрагирования мифа: «Анаксимандр рассеивает тонкие одеяния мифической образности и сохраняет несомненные естественные факторы – тепло и холод, влагу и сухость, огонь, воду и землю. Он думает, что овладел факторами и процессами, наличествующими в действительности, которые дадут прозаическую и рациональную картину того, что происходит в небесах, и происхождения жизни. Но ранняя история этих факторов обнаруживается в сравнении с мифическими космогониями…»[64 - Cornford F. M. Principium Sapientia. The Origins of Greek Philosophical Thought. Cambridge, 1952. P. 197.] Логика этих философских картин не определяется, по мнению Корнфорда, эмпирическими наблюдениями, но лишь предшествующими мифологическими нарративами. Он видит в ранней философии прямую зависимость от мистериальных гимнов, в которых огромную роль играют генеалогии и сама идея первоначального истока – Хаоса, Эреба, тьмы, ночи, бесконечного и т. д. То, что мотив происхождения, истока всегда влечет за собой нарративы, не должно вызывать удивления. Совсем недавно французский исследователь Паскаль Нувель показал, что, вне зависимости от модальности подхода к вопросу о происхождении, нарратив является единственным ответом на этот вопрос: «…исследование истока должно привести к истории – повествованию. Вопрос о происхождении не соответствует никакой формуле, только наррации»[65 - Nouvel P. Avant toutes choses. Enqu?te sur les discours d’origine. Paris, 2020. P. 12.].
К числу «необоснованных догм» греческих философских космогоний Корнфорд относил и восходящую к мифам идею о том, «что порядок возник благодаря дифференциации из простого состояния вещей, первоначально понимаемого как единая живая субстанция, а позже, в глазах плюралистов, как первоначальное смешение, когда «все», что теперь раздельно, «было вместе»[66 - Nouvel P. Avant toutes choses. P. 188.]. Это разделение обыкновенно объяснялось антагонистической природой стихий – влажного и сухого, холодного и горячего и т. д.
Пытаясь возвести логос к некоему первичному состоянию мифа, еще не подвергнутому рациональной дифференциации, Корнфорд, в сущности, развивает ту самую логику, которую он приписывал греческим философам. Все в итоге возводится к некоему первичному началу, где образное и рациональное еще не превратились в оппозиции и сосуществуют[67 - Вот как просто объяснял российский специалист по античной философии Ф. Х. Кессиди этот процесс генезиса философии из мифологии: «Переход от религиозно-мифологических представлений о мире к философскому его пониманию, или, что то же, переход от мифа к логосу, означал замену произвольного (фантастического, вымышленного) „рассказа“ обоснованной аргументацией, разумно-логическими соображениями, то есть тем, что греками было обозначено термином „логос“ (в отличие от термина „мифос“). <…> Мифологические образы (боги), лишенные функции олицетворения явлений природы, „преобразовались“ в эти последние» (Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. Становление греческой философии. М., 1972. С. 107–108).].
3. Единое
Первичное, нерасчлененное состояние – один из главных компонентов модели mythos – logos. Миф и логос являются некими первичными выделениями из некоего Единого, им предшествующего. В такой перспективе, реконструируя этот путь первичной дифференциации, можно достигнуть непостижимого Единого, состояния культуры до утраты мифического единства[68 - Корнфорд так характеризует это Единое у орфиков: «Здесь первобытное состояние неразличимости называется „Хаосом и Ночью, черным Эребом и Тартаром“ – до существования земли, воздуха и неба…» (Cornford F. M. Principium Sapientia. P. 191).]. Нетрудно заметить, что в такой картине мира отчетливо проступает наследие христианско-иудейского монотеизма, постоянно противопоставлявшего Единое «языческой» множественности. Одним из первых европейских философов, пытавшихся постулировать подлинное, а не мифологическое наличие этого Единого, был Шеллинг:
«…первое и единственное определение, которое имеет Первоначало, оно получает в отношении к бытию, оно – будущее, еще только имеющее быть, непосредственное бытие в возможности, то, что не нуждается для своего бытия ни в каких предпосылках кроме себя, своей воли быть»[69 - Шеллинг Ф. В. Й. Философия мифологии: В 2 т. СПб., 2013. Т. 1. Введение в философию мифологии. С. 10. Пер. В. М. Линейкина. До Шеллинга Юм утверждал невозможность постулирования Единого (то есть более абстрактного) до множественного, то есть более конкретного: «…не подлежит сомнению, что в соответствии с ходом естественного развития человеческой мысли невежественная масса сперва должна обладать каким-нибудь примитивным и обыденным представлением о высших силах, прежде чем она окажется в состоянии достигнуть понятия о том совершенном существе, которое внесло порядок во все мироздание» (Юм Д. Естественная история религии // Юм Д. Соч.: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 318. Пер. С. И. Церетели).]. Единое тут – чистая потенция бытия (окрашенная в монтеистические тона), полностью исчерпываемая волей к самоманифестации, «желанием быть». На этой абстрактной стадии тотальной первичности невозможны ни мифология, ни философия. Они возникают в результате поляризации Единого как связанная и взаимно обусловленная пара. В сущности, эта эпоха тотального единства не знает ни языка, ни поэзии и является временем полного неразличения.
Шеллинг пытается описать Единое в самых фантастических терминах и называет эпоху его господства «эпохой гомогенного человечества». Сам род человеческий может существовать в едином только в состоянии тотального неразличения, и даже вне времени: «…эта эпоха, в которую ничего не происходит, в любом случае имеет значение лишь исходной точки, чистого terminus a quo, от которого ведется отсчет, но который, однако, сам по себе не имеет действительного времени, т. е. не является последовательностью различных времен. Однако мы должны дать этой однообразной эпохе некоторую длительность, а она совершенно немыслима без препятствующей любому разнонаправленному развитию силы»[70 - Там же. С. 87. Джордан Пейпер говорит о фантазме протомонотеизма, приписываемого «диким народам», готовым принять христианство (Paper J. The Deities Are Many. A Polytheistic Theology. Albany, 2005. P. 107). Этот протомонотеизм возникает в результате убеждения в том, что политеизм – многобожие – это результат деградации первичной религии единого бога и распада этого монотеизма в идолопоклонничество.]. Этот принцип, обеспечивающий неразличение и неподвижность, Шеллинг определяет как единого для всего человечества бога (ein Gott), неопределенного, но заполняющего собой сознание людей так, чтобы блокировать всякое движение.
Чисто умозрительно Шеллинг приходит к странной идее некоего первичного монотеизма[71 - Вслед за Шеллингом идею первичного монотеизма будет развивать Эрнст Курциус. См.: Curtius E. Studien zur Geschichte des Griechischen Olymps. Berlin, 1890.]: «…лишь такой бог мог дать длительность этой абсолютной неподвижности, этой остановке всякого развития»[72 - Шеллинг Ф. В. Й. Философия мифологии. С. 87.].
Бог этот олицетворяет принцип полной неподвижности. Эпоха однородности, однако, подходит к концу, когда этот ein Gott «сделался подвижным». Всякое движение неразличимости приводит к дифференциации, а потому первичный монотеизм неизбежно порождает из себя вместе со временем и политеизм, а «приходящий на смену политеизм сделал невозможным длительное единство человеческого рода. Политеизм, таким образом, есть разделяющее средство, которое было брошено в гущу гомогенного человечества»[73 - Шеллинг Ф. В. Й. Философия мифологии. С. 88.]. «Тот же самый бог, который в непоколебимом равенстве самому себе удерживал единство, теперь, став неравным себе и изменчивым, должен был точно так же рассеять человеческий род, как ранее он соблюдал его в единении, и как в своей тождественности он был причиной его единства, так в своей множественности он сделался причиной его разделения»[74 - Там же.].
Именно с этого момента Шеллинг ведет отсчет мифологиям, языку и поэзии. Мифологии и языки возникают как способ дифференциации однородного. Первые мифологические нарративы складываются в эпоху вавилонского смешения языков, ведущего к политеизму, закрепляющему процесс распада единства. Шеллинг даже связывает развитие языков с религиозным кризисом перехода к политеизму, который он называет «возбуждением», и, соответственно, с «переходом от еще невыраженного к развитому мифологическому сознанию. – Возбуждение (Affectionen) языковой способности, и именно не только внешней, но и внутренней, связанно с религиозными состояниями…»[75 - Там же. С. 90. Шеллинг прямо говорит о «взаимосвязи религиозного возбуждения с возбуждением языковой способности».] Политеизм провоцирует «говорение языками». Поскольку все эти явления современной культуры обусловлены распадом Единого, то они могут связываться со специальным временем перехода от неразличимости к различимости: «…каждый народ как таковой лишь тогда существует, когда он определился в отношении своей мифологии. Она, следовательно, не может возникнуть у него в эпоху уже свершившегося обособления и после того, как он уже состоялся в качестве народа; поскольку же она столь же мало могла возникнуть у него, покуда он еще пребывал в целом человечества в качестве его незримой части, то ее образование должно падать как раз на переход, на момент, когда он еще не представляет собой определенного народа, но стоит на пути к тому, чтобы выделиться и обособиться как таковой. В точности то же самое, однако, должно быть верно и в отношении языка каждого народа, а именно: что он определяется как раз в то самое время, когда происходит образование самого народа»[76 - Там же. С. 91–92.]. Этот момент перехода – центральный, именно тогда возникает и живая поэзия, связанная со становлением народа.
Переход от единого к дифференцированному трудно описать. Ведь эпоха гомогонности – это эпоха немоты, закрепляющей тотальное единство. Она не предполагает диалога. Шеллинг в одном месте пытается описать этот переход, комментируя сообщение Геродота (Геродот, 1, 57) о том, что народ пеласгов при своем превращении в эллинов «перешел на другой язык», и замечает, что это событие было не только сменой языка, но и «переходом от еще не выраженного к развитому мифологическому сознанию»[77 - Шеллинг Ф. В. Й. Философия мифологии. С. 90.]. Пеласги перешли не только к более развитому языку, но и от некой невнятности первичного мифа к развитой эллинской мифологии.
Этот переход мне кажется принципиальным. Речь идет о переходе от невыразимого, от чистой «возможности», с которой Шеллинг связывал эпоху первичного монотеизма, к артикулированному и сформулированному, к эпической поэзии и космогонии. Мифом, как мне кажется, можно называть текст недифференцированной потенциальности, противоположный тому, что можно называть мифологией, то есть зафиксированным корпусом нарративов, порожденных мифом. Миф всегда касается истоков, которые невыразимы. Жан-Люк Нанси как-то заметил: «…под „мифом“ следует понимать открытость к возможности смысла – смысла, не оснащенного состоявшимися значениями (тем, что я бы назвал „мифологией“), но просто смыслом, как движением, событием, существованием»[78 - Girard M., Nancy J.-L. Proprement dit. Entretien sur le mylthe. Paris, 2015. P. 20.], и я бы добавил вслед за Шеллингом – переходом. Там, где возникает миф, мы оказываемся в области невыразимого, в области молчания или неартикулированной речи. Но именно эта область не просто первична для поэзии, она во многом определяет ее бытие.
В цитированном мной диалоге с Матильдой Жирар Нанси делает еще одно существенное замечание. Обсуждая время написания «Литературного абсолюта» и «Непроизводимого сообщества», Нанси заметил, что это была «эпоха, которая вновь молчаливо актуализировала вопрос о мифе, в силу того, что она выходила из политико-метафизических мифологий (если ты готова различать эти два понятия) – коммунистической, спиритуалистической, гуманистической»[79 - Ibid.]. Я согласен с Нанси в том, что бывают переходные эпохи, когда общество движется от мифа к мифологии и наоборот, то есть от сформулированного и многократно повторенного к невыразимому и первичному. Я думаю, такая эпоха перехода случилась в десятые – двадцатые годы ХХ века, и именно она породила поэзию русского авангарда. Концом мифологий стали в России и последние десятилетия ХХ века, вновь актуализировавшие миф.
4. Ночь логоса
В ряде текстов, написанных после Второй мировой войны, то есть в один из периодов перехода, Франсис Понж сформулировал задачи поэзии в сходных с Нанси терминах. В тексте под названием «Шепот» он писал об опасной лживости определения сущности человека в категориях «духа и сердца» (un esprit et un cCur). Такого рода человек – продукт популярной мифологии, от которой следует отказаться и представить себе человека «как он есть»: «…нечто в конечном счете более материальное, более непроницаемое, более сложное, более плотное, лучше интегрированное в мир и более тяжелое для перемещения <…>; иными словами, больше не место, где рождаются Идеи и чувства…»[80 - Ponge F. Le grand recueil. Mеthodes. Paris, 1961. P. 190.] Именно такой не обремененный идеями и аффектами человек и должен быть областью поэзии или, шире, искусства. Искусство – это такая область, в которой «чувства смешиваются, а идеи взаимно уничтожают друг друга» (o? les sentiments se confondent et o? se dеtruisent les idеes)[81 - Ibid. P. 192.]. Такая способность искусства погружаться в недифференцированность связана с его фундаментальной принадлежностью «истокам человечества», когда аффекты и идеи не существовали по раздельности. В итоге искусство оказывается призванным выражать «не-значимость мира» (la non-signification du monde).
Эти интуиции приобретает свойства художественного манифеста в тексте 1952 года «Наша единственная родина – немой мир». Обнаружение истоков поэзии в «немом мире» заявляет о себе уже в записях 1951 года, позднее включенных в сборник «За Малерба», где говорится о том, что обретение слова вынуждает поэта провозглашать своей родиной мир немоты[82 - Ponge F. Pour un Malherbe. Paris, 1965. P. 31.]. В «Нашей единственной родине…» Понж рассуждает о том, что мир существует с непреходящим ощущением гибели цивилизации, преодолеть которое можно, только «выйдя из пугающего классического периода, периода совершенной мифологии и догматизма»[83 - Ponge F. Le grand recueil. Mеthodes. Paris, 1961. P. 197.]. Речь идет одновременно и о выходе из истории и из связанной с ней идеи прогресса. Искусство призвано порвать со временем и научиться «отбивать часы» в горизонте вечности. Как видим, тут прямо являет себя смесь Нанси (до Нанси) и Шеллинга.
Художники, которых Понж называет «послами немого мира», призванными спасти человека от низвержения в крах, должны отказаться от внятной артикулированной речи: «…они бормочут, шепчут, погружаются в ночь логоса, покуда не оказываются на уровне корней, где смешиваются вещи и формулировки»[84 - Ibid. P. 198. Хайдеггер говорил в присущей ему манере, что «поэтически жительствовать» означает «быть потрясенным сущностной близостью вещей» (Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль. М., 2017. С. 17. Пер. Н. Болдырева).].
Ночь логоса – это первичность мифа, в которой перестают действовать «совершенные мифологии». Понж утверждает, что такая поэзия сегодня важнее, чем любое другое искусство и любая наука, и добавляет: «Вот почему настоящая поэзия не имеет ничего общего с тем, что предлагают сегодня поэтические сборники. Она заключена в неистовых черновиках нескольких маньяков новых объятий» («Elle est dans les brouillons acharnеs de quelques maniaques de la nouvelle еtreinte»[85 - Ponge F. Le grand recueil. Mеthodes. P. 198.]). Объятия, о которых идет речь, – это своего рода судорожное сжатие, полное единение слова с миром и вещами. Поэзия, о которой говорит Понж, направлена не только против «духа» и сердца», но и против почти всей современной поэзии, в которой «идеи» и «аффекты» свили себе уютное мифологическое гнездо.
Этот вызов Понжа литературной современности мне кажется очень значимым именно в сфере поэзии. Он утверждает фундаментальный анахронизм подлинного поэтического слова. То в поэзии, что часто считает себя выражением современных идей и аффектов, – почти всегда обречено на псевдоактуальность. Остроактуальным может быть только «вневременное», то есть одновременно соотнесенное с сегодняшним днем и с первичным мифом. Актуальный поэт тот, чья родина – немота, тот, чье слово – бормотание и черновик. Хайдеггер замечал: «…сущность поэзии принадлежит к определенному времени. Но не так, чтобы стараться быть соразмерным этому уже существующему времени. Заново учреждая существо поэзии, Гёльдерлин впервые определяет и новое время. Это время спешно ушедших богов и грядущего бога»[86 - Хайдеггер М. О поэтах и поэзии. С. 23.].
Само обращение к мотиву черновика мне кажется значимым. Черновик фиксирует пространственный облик стихотворения, или пространственный его генезис. Стихотворение всегда подчинено двум противоречивым импульсам – линейному развитию текста, которое доминирует в прозе, и пространственному симультанному начертанию текста на листе. Здесь встречаются, но никогда не совпадают фигуративное и дискурсивное. Как заметил специалист по генитивной поэтике Мишель Колло, уход от традиционной версификации сопровождался возросшим интересом к расположению текста на странице, исследованием поверхности листа, начало которому положил Малларме[87 - См.: Collot M. Tendances de la gen?se poеtique // Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention). 1992. № 2. Manuscrits poеtiques. P. 12.] и которое столь очевидно у русских футуристов. «Ночь логоса» Понжа, в которой смешиваются «вещи и их формулировки», прежде всего проявляет себя в смешении миметической фигуративности письма как жеста и «логоса», который пытается выделиться из этой фигуративности. При этом борьба фигуративного и дискурсивного может на какой-то стадии пониматься как момент мифического генезиса поэзии.